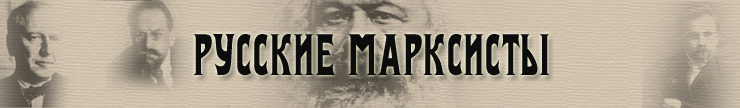Письмо Ленину о Китае и Японии.
РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 2146. Маш. текст, подчеркивания автора. Подлинная подпись, дата и «Пекин» — от руки.
Пекин, 28 октября 1922 г.
Многоуважаемый Владимир Ильич, позвольте мне прежде всего из нашего китайского далека выразить свою радость по поводу дошедших до нас слухов, что Вы опять вступаете в работу. Помимо того, что это вероятно вообще каждого радует, мне это приятно еще и потому, что я в глубине души вовсе не согласен с сделанным как-то Каменевым заявлением, будто без Вас не было допущено ошибок в нашей политике.
Мне думается, что ошибки не только были, но они имеются и теперь. Мне лично очень часто приходилось чрезвычайно сожалеть о том, что нельзя по-прежнему аппелировать к Вам и вот почему, я, оставляя в стороне всякие личные чувства, только как политик всю свою жизнь отдавший нашему общему делу, — позволяю себе потревожить Вас, как только я получил надежду, что Вы опять сами будете читать адресованные Вам письма. Так как волею судеб мне больше всего приходится заниматься внешней политикой, то я, не утруждая Вашего внимания другими вопросами, остановлюсь в этом письме только на вопросах внешней политики. Мне, кажется, первому пришлось заняться ею. И тогда ни у кого не существовало сомнений, что важнейшей, если не единственной целью нашей внешней политики является борьба против мирового империализма (в тот период «борьбы за мир») в интересах скорейшего осуществления мировой революции.
В период Бреста наша дипломатия была исключительно агитационной. Правда в короткий период моего Берлинского посольства агитацию пришлось вести нелегально, а дипломатию направлять на то, чтобы хоть несколько умерять милитаристический натиск на нас кайзерской Германии, но все же и эта явная работа имела яркий агитационно-пропагандистский характер.
Когда начались переговоры с образовавшимися на территории б. Российской Империи Республиками, этот агитационно-пропагандистский характер нашей дипломатии должен был выявиться особенно ярко и резко. Нам важнее всего было доказать анти-империалистический и не агрессивный характер нашей политики.
Так как проведение этой нашей политики почти целиком выпало на мою долю, то на этом основании создалась легенда о моей чрезмерной уступчивости, хотя, как это можно было бы доказать выдержками из моей переписки с Москвою во время переговоров, я фактически ни разу не дал нашим противникам даже того, на что соглашался ЦК. Тем не менее, бесспорно, конечно, что наша политика в этот период и в отношении этих малых республик, так же как и в отношении азиатских государств, должна была быть и действительно была весьма и весьма уступчивой.
В то же самое время я лично никогда не одобрял подобной же уступчивости в отношении империалистических государств, хотя в торговых переговорах с ними мы и должны были разбивать железное кольцо блокады, которым были окружены.
Сейчас же, после заключения мира с Польшей, я в брошюре «Мирное наступление» (экземпляр которой позволил себе переслать и Вам) пытался доказать, что оборонительный период нашей внешней политики закончен, что мы можем перейти в наступление, стать более активными в стремлении занять подобающее нам место в так называемом международном концерте и во всяком случае должны впредь не только реагировать на политику великих держав, но и вести самостоятельную активную политику.
К сожалению, этого мы не сделали и не делаем до сих пор, ибо по-прежнему только реагируем на действия наших врагов.
Когда началась подготовка к Генуе, я в личных письмах к Вам пытался обратить Ваше внимание, что у нас нет линии. Хотя после этого ЦК-ом были приняты тезисы т. Литвинова, но тем не менее линии у нас в Генуе так-таки до конца не было. В Генуе мы не оскандалились только потому, что противники наши оказались еще хуже нас. Но неуверенный, колеблющийся характер нашей дипломатии принес нам много вреда, который оказывает свое влияние и до сих пор. Между прочим, с этим вредом пришлось столкнуться и во время японских переговоров: вся мировая пресса напоминала как в Генуе мы сначала делали заявления, а потом брали их назад, и предупреждала, что, несмотря на категоричность моих заявлений их не следует принимать всерьез как окончательные. Я не стану касаться нашей европейской и ближневосточной политики ближайшего периода, ибо слишком теперь оторван от нее, чтобы иметь право правильно судить, хотя мне и кажется, что если мы не противодействуем переориентации Европы на Францию против Aнглии, то мы допускаем большую ошибку, так как до тех пор, пока во Франции господствует национальный блок, она объективно сильнейший наш враг и изоляция ее в Европе, хотя бы даже под условием необходимости сближения и поддержки Aнглии, объективно опять-таки для нас совершенно необходима. Расхождение с Aнглией в ближневосточных делах и сближение с Францией в этом вопросе вовсе не является достаточной причиной для перемены ориентации: Aнглии так важна гегемония в Европе, что мы могли не допустить ее глупостей в отношении Турции если бы были более активными и дали бы понять Aнглии, что ее упорство в турецких делах заставит нас (а следовательно, и Германию) искать сближения с Францией против Aнглии, что означает решительную победу первой над второй в борьбе за гегемонию в Европе.
Если, как кажется отсюда, мы этого не сделали, но пошли по линии сближения с Францией, то тут нашел себе подтверждение наш постоянный импрессионизм в политике и отсутствие прямой, твердой линии.
Но, повторяю этих дел я не хотел бы касаться и потому перехожу к японским переговорам, которые были поручены мне.
Не считая Брестских переговоров и нашего участия на международных конференциях (тоже, впрочем, экономических), это были первые наши переговоры с явно и грубо империалистической державой. И тут поэтому наша тактика опять должна была стать ярко агитационно-пропагандистской и, по сравнению с переговорами с малыми прибалтийскими республиками, резко неуступчивой.
Поскольку я мог, я именно эту тактику старался проводить. Переговоры были страшно трудными и физически и морально, ибо утеряв прежнюю связь с Вами и с ЦК я не чувствовал линии Вашей и все время не имел уверенности, что Москва одобряет мою тактику, а представители ДВР* были абсолютно против нее (это, быть может, способствовало моей болезни, которая до сих пор приковывает меня к постели). В конце концов выяснилось, что ЦК согласен со мною и наша тактика, как это ясно теперь, оказалась весьма удачной: престиж наш поднялся не только на Д. Востоке, но и за пределами его, а в Японии массовое движение вокруг русского вопроса развивается настолько сильно, что меня нисколько не удивит, если в ближайший месяц-другой Япония опять предложит нам переговоры.
* Дальневосточная республика.
Но теперь, как только я встану с постели, предстоят наши переговоры с Китаем и тут, мне кажется, в Москве опять начинают страдать импрессионизмом и применять психологию НЭПа к Китаю, то есть хотят исключительно материальных выгод и от Китая.
Мне думается, что в Москве не отдают себе отчета в том, что такое Китай и что означают русско-китайские переговоры.
Когда я был в Туркестане, Вы как-то писали мне, что «Туркестан страшно важен», что «это — Индия, это — наша мировая политика». В своей работе там я посильно старался проводить эту Вашу директиву, поддерживая тамошнее национальное движение, хотя и считал своим долгом бороться против уродливостей зоологического национализма, грозившего создать национально-сепаратистскую борьбу внутри Туркестана и экономически разрушить его.
Но я должен признать, что в оценке значения Туркестана я больше верил Вам на слово и только абстрактно понимал, что через Aфганистан и Персию Туркестан действительно «Индия», «действительно наша мировая политика». Конкретно, реально я не осязал этого в Туркестане. Совсем другое дело здесь; в Китае я сразу совершенно реально и осязательно почувствовал и Индию, и тихоокеанскую мировую борьбу, и Японию, и, наконец, мировую историю.
Если Туркестан — Индия и наша мировая политика, то Китай — в тысячу раз больше. Это — здесь, на месте — совершенно ясно.
То, что происходит в Семиречье, едва доходит до Aфганистана, даже, как, например, то, что происходит в Кит. Туркестане совсем не доходит до собственно Китая.
Но то, что происходит в Китае, особенно в смысле национально-освободительной борьбы, живейшим образом интересует все борющиеся за свое освобождение от гнета империализма восточные народы и моментально становится им известным.
Поэтому в Китае я считаю необходимым проводить политику, которая, наверное, опять оживит легенду о моей чрезмерной уступчивости.
Одно из двух: либо наша мировая политика по-прежнему сводится к борьбе против мирового империализма за мировую революцию, либо нет. Если нет, то я, значит, нашей нынешней мировой политики не знаю и не понимаю и, следовательно, не могу проводить ее в жизнь. Если да, то работа в Китае должна носить еще более демонстративный, агитационно-пропагандистский характер, нежели какая бы то ни было наша работа до сих пор, ибо в Китае наибольший резонанс и наиболее легкие и реальные возможности демонстрации.
Когда говорят о Китае, то нужно иметь в виду, что решающее и главнейшее для нас значение должны иметь не те лица, в которых привыкли персонифицировать Китай. Не только У-Пэй-фу или Чжан-Цзо-линь, но и сам Сун-Ят-сен, наиболее близкий нам по своему революционному духу, не должны являться для нас элементами, в приспособлении к которым должна заключаться наша политика в Китае. Но этим элементом являются только массы, которые еще не имеют своего вождя, но которые уже пробудились для национально-освободительной борьбы и которые состоят из частью радикальных, частью коммунистических рабочих, из такого же студенчества и либеральной интеллигенции.
Мы должны вести политику и с Чжаном, и с У и с Сунем, но более всего должны иметь на своей стороне эти массы, о которых я говорил выше. Мы можем быть чрезвычайно неуступчивыми в отношении каждого из этих лидеров и еще более неуступчивыми в отношении нынешнего Пекинского правительства, но только в том случае, если указанные массы не поддерживают их требований. Если поддерживают, несмотря на наши разъяснения, мы непременно должны уступить.
Такая тактика в яркой демонстративности нашей анти-империалистичности помимо громадного влияния, которое она окажет на все борющиеся против мирового империализма народы, будет иметь еще серьезнейшие результаты в смысле нашего воздействия на отношения с Японией.
Япония, бесспорно, переживает предреволюционную эпоху. Можно спорить о том, будет ли там революционное восстание или же, как утверждают некоторые знатоки Японии, командующие классы там своевременно уступят и революция, так сказать, будет отктроирована сверху. Но нельзя спорить, что борьба между революционными элементами народа и командующими классами там дошла до крайнего предела и обостряется с каждым днем. Достаточно указать, что в истории с продажей владивостокского оружия Чжан-Цзо-линю, которую я раздул здесь, японское правительство вынуждено было уступить требованиям масс, найти козла отпущения — майора Хара и, инсценировав суд над ним, присудить его к 2-м годам тюрьмы как единственного виновника инцидента с оружием. Вся Япония превосходно понимала, что майор Хара только козел отпущения и, когда его жена, в результате приговора, покончила с собой, вся пресса жестоко обрушилась на правительство.
Конечно, когда где бы то ни было правительство вынуждено идти на такие трюки, это доказывает, что оно не весьма-то сильно.
A большинство оппозиции требует признания С. России и возобновления переговоров с нами.
Если мы на китайских переговорах на деле выступим в роли замаскированных империалистов — это будет сильнейшим ударом как раз по поддерживающим нас элементам японского общества. Если мы подчеркнем наш антиимпериализм и отсутствие агрессивности, если мы при каждом удобном случае будем выявлять разницу наших отношений к империалистам Японии и угнетенным массам Китая, то помимо указанных прочих соображений мы усилим японскую оппозицию и ускорим японскую революцию.
Я прекрасно понимаю, что элементы китайской общественности руководимые кит. правительством, в свою очередь идущим на поводу у международных империалистов могут и, быть может, действительно будут на конференции выдвигать совершенно неприемлемые требования, и я вовсе не стою на той точке зрения, что этих требований нельзя самым резким и решительным образом отклонить. Я только полагаю, что нельзя нам самим выдвигать требований к Китаю хоть немного пахнущих империализмом, нельзя, коротко говоря, в переговорах с Китаем не стоять фактически, т.е. не на словах, а на деле, на почве наших превосходных деклараций 19-20 г. г. Ибо только эти декларации превратили в Китае ненависть к царской России в преклонение перед новой Россией и только вера в то, что мы исполним эти наши обещания, создает нам такую популярность.
Я, к сожалению, из-за болезни не в силах теперь написать подробный доклад о положении дел здесь и, посколько это возможно, стараюсь информировать шифровками. Но мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что нельзя судить о настроениях в Китае по платформам У-Пэй-фу, Чжан-Цзо-линя и даже Сунь-Ят-сена. Действительная сила китайского освободительного движения в тех революционных массах, которые, конечно, тоже имеют отдельных руководителей, но еще не имеют одного лидера, которые состоят из коммунистически настроенных или руководимых коммунистически настроенными руководителями рабочих и студентов и из широких слоев либеральной интеллигенции и с которыми, наконец, мы должны идти рука об руку во всем.
Конечно, эти элементы частично совпадают с группировками всех 3-х вышеуказанных вождей, но их объединяет всех вместе и отделяет от этих вождей то обстоятельство, что они не приемлют субъективных элементов в политике У, Чжана и Суня.
Чжан-Цзо-лин — просто разбогатевший хунхуз, который не желает выпустить из своих рук трех северных провинций, питающих его с его кликой и создающих его влияние. Панкитайские идеалы у него имеются постольку, поскольку он антагонистичен У-Пэй-фу и поскольку он в тайниках своей души обуреваем династическими инстинктами и мечтает о троне или президентстве для своего сына.
У-Пэй-фу точно так же совершенно субъективен в своей борьбе, руководим только личными интересами и личным честолюбием, но он имеет то преимущество перед Чжаном, что достаточно образован и умен, чтобы понять, что не может стать панкитайской фигурой, не идя в ногу с китайским национально-освободительным движением и в частности не имея соглашения с Сунь-Ят-сеном, которого он все же боится и постоянно стремится ослабить для того, чтобы с ним соглашаться не в период его силы, а в период его слабости.
Даже сам Сунь-Ят-сен, ничего не желающий для себя лично и работающий не ради денег или честолюбия, все же остается чистейшим субъективистом в своей борьбе. Ибо он испорчен исторической китайской действительностью, где для неглубокого и недостаточно научно-мыслящего наблюдателя все события кажутся действительно созданными личностями, а не массами. Недаром Сунь не на словах только, а и в глубине своей души верит, что он прямой идейный наследник Конфуция, и признает, что после Конфуция только он один может выполнить задачу объединения и освобождения Китая.
Таким образом, совершенно бескорыстный психологически, и Сунь фактически ведет борьбу во имя свое.
Отсюда все его парадоксальные теории. Его игнорирование масс, его стремление быть диктатором в партии Го-Мин-дан (он требует от каждого члена партии присяги на верность себе, имеет право казнить каждого). Отсюда также его военный авантюризм. Будучи искренне убежден, что в Китае революцию можно совершить только военной силой, он вечно находится в погоне за такой территорией, где он мог бы организовать свою армию. Сначала он делал это в Кантоне, но так как этого мало, то он стремился расширить свою базу и игнорировал все остальное. Когда он был изгнан из Кантона, он конспирировал со всеми и с У, и с Чжаном, но не вмешивался в повседневную политику и ни с кем не соглашался окончательно. Теперь, когда ему в Фуцзянской провинции удалось одержать победы и захватить часть территории, он мечтает о возвращении себе Кантона, который таким образом, будет расширен указанной, уже находящейся в его руках, провинцией. Он совершенно игнорирует то обстоятельство, что эти победы отделяют его от У-Пэй-фу и сближают с анфуистами (японофилами) и Чжан-Цзо-лином. Таким образом, стремящийся к объединению Китая, Сунь, фактически является ферментом разложения и причиной нарушения даже того слабого равновесия, которое создалось. И это понятно, ибо для Суня победа революции во имя освобождения и объединения Китая — означает его, Суня, победу над всем Китаем.
Через агентов Суня я теперь близок с ним и пытаюсь доказать ему весь авантюризм его политики, но он, на словах соглашаясь со мной, на деле все время требует одного: помощь ему в создании сильной армии. Сунь понимает, что не имея тыла, он никогда не создаст такой армии, поэтому мечтает о создании ее там, где мы будем его тылом и будем ему помогать, т.е. в Вост. Туркестане или еще лучше (ввиду лучших средств сообщения с собственно Китаем) в Монголии. Эту просьбу он повторяет все время. Я, не отвергая ее принципиально, просил конкретных предложений.
И в то же самое время люди того национально-освободительного движения, о которых я писал выше, не только сами ничего не желают для себя лично (благодаря главным образом их нежеланию дать из своей среды кандидата на пост Мининдел Китая, мне до сих пор не удается свалить Веллингтона Ку, ибо всякий могущий его заменить дипломат по специальности будет нисколько не лучше его; ведь все они христиане, получившие воспитание в английских и американских колледжах, являются агентами иностранного империализма), но и совершенно не разделяют субъективистской и в достаточной мере авантюристской позиции Сун-Ят-сена, с которым все же связаны больше, чем с другими группировками, т. к. официально в большинстве своем принадлежат к той же партии Гоминдан.
Я лично глубоко убежден, что будущее принадлежит не знаменитым китайским деятелям, враждующим между собой, а именно этому массовому движению, которое в конце концов, возможно, выдвинет своего вождя.
И вот почему я считаю совершенно необходимым для нашей политики в Китае опираться на это массовое движение и ни в чем с ним не расходиться.
В истории Китая был период, когда царское правительство взяло на себя роль защитника Китая против японского империализма и тогда популярность России в массах была чрезвычайно высока. Но это длилось только до тех пор, пока Россия сама не стала проводить империалистической политики; тогда она стала ненавистной всем.
Был также период, когда Япония, основываясь на своей расовой близости к Китаю, пыталась одеть на себя личину друга Китая и защитника Китайского народа от империализма белых. И Вы знаете какую власть приобрели в Китае анфуисты, бывшие простыми подкупленными агентами японского империализма. Они все же два года держались в Китае у власти. И лучший ум Китая Сун-Ят-сен, бывший слишком связанным с Японией, до сих пор продолжает считать Японию наименьшим злом, не понимая моих возражений, что с Японией Китай может соглашаться только после японской революции.
Однако массы всегда заблуждаются менее своих вождей и после того, как открылся японский обман, китайский народ видит в Японии злейшего своего врага.
Нужно помнить, что ввиду нашей Монгольской авантюры, а частью, быть может и тех требований, которые выдвигал т. Пайкес в своих беседах (по поручению из Москвы), многие и многие подозревают и нас в неискренности.
Особенно это поддерживают империалистические газеты, постоянно утверждающие, что мы не исполним своих обещаний 19 — 20 гг. A из этих газет особенно борется против нас субсидируемая Японией печать, пользующаяся каждым удобным случаем дискредитирования нас и сегодня еще печатающая отвратительную статью Фарбмана из Обсервер.
Я убежден, что хоть одного нашего империалистического или полуимпериалистического требования Китаю, будет достаточно, чтобы испортить всю нашу китайскую политику. A крах нашей китайской политики, по-моему глубочайшему убеждению, означает крах нашей мировой, антиимпериалистической политики вообще.
Чтобы избежать этого и найти в Вас поддержку своей политике в Китае, я позволил себе затруднить Вас этим письмом.
Так как я по болезни не в силах написать свой обычный доклад, я посылаю копии этого письма т. т. Троцкому и Чичерину.
Желаю Вам полного здоровья.
С коммунистическим приветом
A. Иоффе.