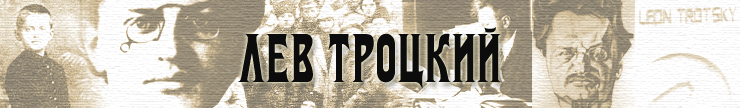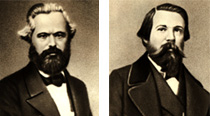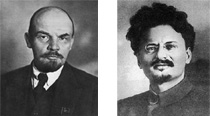Грозовые тучи над Дальним Востоком.
Эта статья (вторая статья на тему Красной Армии) была опубликована в ежемесячном американском журнале «Esquire» за август 1934 г. Печатается по копии, хранящейся в Архиве Троцкого в Гарвардском университете, папка MS Russ 13 Т-3653, стр. 18-22 (Houghton Library, Harvard University) — /И-R/
Дальний Восток
Военные силы, сосредоточенные на Дальнем Востоке в месяцы крайнего обострения японо-советских отношений, поражают на первый взгляд своей незначительностью. Японский военный министр Хаяси говорил 3 февраля, что его правительство содержит в Маньчжурии лишь 50.000 солдат, тогда как Советы сосредоточили на своей ближайшей границе 100.000 человек и 300 аэропланов. Опровергая Хаяси, Блюхер, командующий Особой Дальневосточной армией, утверждал, что японцы сосредоточили в Маньчжурии на самом деле 130.000, больше трети своей активной армии, плюс 115.000 солдат Манчжоу-Го, итого 245.000 при 500 самолетах. В то же время Блюхер заверял, что советские вооруженные силы не уступают японским. По масштабам великой войны дело идет почти что о партизанских отрядах.
Свойства дальневосточного театра (необъятные и крайне пересеченные пространства, редкость населения, плохие пути сообщения, отдаленность от основных баз) исключают сосредоточение миллионных масс, сплошной и глубокий фронт, позиционную войну. В русско-японской войне 1904-[19]05 гг. участвовало с русской стороны 320.000 солдат, а к концу, т.е. к полному разгрому царской армии, — 500.000. Японцы едва достигли этого числа. Царской армии не хватало не транспорта, не численности, а умения. Военная техника с того времени неузнаваемо изменилась. Но основные свойства военного театра на Востоке остались те же. Маньчжурия является для Японии промежуточной базой, которая отделена от основных баз морем. Японский флот господствует на море, но не под водой и не в воздухе. Морской транспорт связан с опасностями. Китайское население Маньчжурии враждебно японцам. Миллионных масс Япония не сможет сосредоточить на дальневосточном театре, как и Советы. Новейшая техника будет по необходимости сочетаться с тактическими методами прошлого. Для Забайкалья и Приморья стратегия Наполеона, пожалуй, даже Аннибала, сохраняет добрую долю своей силы. Рейды крупных кавалерийских соединений будут вносить решительные изменения в военную карту. Японские железные дороги в Маньчжурии будут подвергаться бóльшим опасностям, чем советская линия, идущая вдоль Амура. При действии разрозненных отрядов, при конных рейдах в тылу противника громадная работа выпадет на долю новой техники в лице авиации как средства разведки, связи, транспорта и бомбардировки.
Поскольку вообще война в Приморье и Приамурье будет носить подвижной и маневренный характер, исход её будет в решающей степени зависеть от способности отдельных отрядов к самостоятельным действиям, от инициативы низших начальников, от находчивости каждого отдельного солдата, предоставленного самому себе. Во всех этих отношениях Красная Армия должна, на наш взгляд, превосходить японскую по крайней мере настолько же, насколько в 1904—05 годах японская превосходила царскую.
Как показали события истекшего года, Токио не решается сейчас начать. Между тем каждый новый год будет менять соотношение сил к невыгоде Японии. Уже развитие Кузнецкой военно-промышленной базы освобождает дальневосточный фронт от необходимости опираться на европейский тыл. Радикальная реконструкция пропускной способности дороги Москва-Хабаровск путем проведения второй колеи поставлена советским правительством в качестве первостепенной задачи на 1934 год. Наряду с этим приступили к строительству железнодорожной линии от Байкальского озера к низовьям Амура, на протяжении 1,400 километров. Новая магистраль должна пройти через богатейший район углей Буреи и руды Хингана. Программа нового промышленного строительства должна превратить область Буреи, отстоящую всего на 500 километров от Хабаровска, т.е. в десять раз ближе Кузнецкого района, в самостоятельную промышленную военно-техническую базу Дальнего Востока. Гигантские работы транспортного и промышленного характера в сочетании со значительными экономическими льготами, предоставленными населению Дальнего Востока, должны привести к быстрому заселению этого края, что окончательно вырвет почву из-под сибирских планов японского империализма.
И тем не менее внутреннее положение Японии делает войну почти неизбежной, как она, несмотря на все предостерегающие голоса, оказалась неотвратимой для царизма тридцать лет тому назад. Не будет парадоксом сказать, что, возникнув, война на Дальнем Востоке окажется либо очень короткой, почти молниеносной, либо весьма затяжной. Цель Японии — захват Дальнего Востока и по возможности значительной части Забайкалья — сама по себе требует очень больших сроков. Война могла бы кончиться скоро только при том условии, если бы Советскому Союзу удалось решительно и надолго сокрушить японское наступление в самом начале. Для разрешения этой оборонительной задачи авиация дает Советам оружие неоценимой силы.
Нет надобности быть адептом «интегральной» авиационной войны, т.е. верить в перенесение решающих боевых операций в воздух, чтобы признавать, что при известных условиях авиация несомненно способна разрешить проблему войны, радикально парализовав наступательные операции противника. Именно такова обстановка на Дальнем Востоке. Когда Хаяси жаловался на сосредоточение советской авиации в Приморье, он этим выдал вполне объяснимую тревогу правящих кругов Японии, политические центры которой, военно-промышленные конгломераты, важнейшие военные базы открыты ударам красных воздушных флотилий. Имея Приморье как базу, можно при помощи авиации дальнего действия внести величайшие разрушения в жизненные центры островной империи. Даже если сделать маловероятное допущение, что Япония выдвинет воздушный флот равной или превосходящей силы, опасность для островов окажется только ослабленной, но не устраненной. Нельзя создать непроходимый воздушный барьер, прорывы будут слишком часты, а каждый прорыв чреват большими последствиями.
Решающее значение в этой дуэли будет иметь не материально-технический перевес, который несомненно существует на стороне советской авиации и который в ближайшее время может только возрастать, а относительное географическое расположение сторон. В то время, как почти все японские центры открыты нападению с воздуха, японская авиация не может ответить сколько-нибудь равносильными ударами: не только до Москвы, но и до Кузнецкого бассейна (6-7.000 километров!) нельзя долететь без посадки. Между тем ни в Приморской области, ни в Восточной Сибири нет таких жизненных центров, разгром которых мог бы оказать решающее или хотя бы существенное влияние на ход войны. Преимущества положения, помноженные на более могущественную технику, дадут Красной Армии перевес, который трудно выразить в каком-либо точном коэффициенте, но который может приобрести решающее значение.
Если б, однако, советская авиация оказалась неподготовленной для разрешения грандиозной задачи третьего измерения, центр тяжести операций был бы перенесен на плоскость, причем вступили бы в силу законы дальневосточного театра; главный из этих законов именуется: медленность. Для внезапного захвата Приморья срок явно упущен. Сейчас Владивосток представляет собою серьезно укрепленную позицию, которая может стать Верденом тихоокеанского побережья. Пытаться взять крепость можно только с суши, для чего понадобилась бы, пожалуй, дюжина дивизий, в 21⁄2 — 3 раза больше, чем для обороны. Даже в случае окончательной удачи эта операция может отнять месяцы и тем предоставить неоценимый дополнительный срок в распоряжение Красной Армии. Продвижение японцев на Запад требовало бы огромных подготовительных работ: сооружения промежуточных баз, прокладки железных дорог и подъездных путей. Сами успехи Японии на этом пути создавали бы возрастающие затруднения, ибо Красная Армия отступала бы на свои базы, а японцы растекались бы в негостеприимном пространстве, имея за своей спиной порабощенную Маньчжурию, задавленную Корею и враждебный Китай. Затяжная война открывала бы возможность формирования в глубоком тылу у японцев Китайской армии при содействии советской техники и советских инструкторов.
Но здесь мы входим уже в область мировых отношений в подлинном смысле слова, со всеми таящимися в них возможностями, опасностями и неизвестными величинами. Многие из приведенных выше соображений и расчетов оказались бы, конечно, опровергнуты, если бы война продлилась ряд лет и вынудила советы поставить под ружье 20 миллионов душ. Слабейшим звеном после транспорта или наряду с транспортом, оказалось бы в этом случае, вероятно, советское сельское хозяйство, основные проблемы которого еще далеки от разрешения. Однако как раз в перспективе большой войны совершенно недопустимо брать вопрос об СССР изолированно, т.е. вне прямой связи со всей мировой обстановкой. Каковы будут группировки стран на Востоке и на Западе? Окажется ли осуществимой военная коалиция Японии и Германии? Найдет ли СССР союзников, и кого именно? Что станется со свободой морских путей? Каково будет продовольственное и вообще экономическое положение Японии? Очутится ли Германия в новом кольце блокады? Какой окажется относительная устойчивость режимов воюющих стран? Число этих вопросов можно было бы умножить. Все они неотвратимо вытекут из обстановки мировой войны, но ответить на них априорно никому не дано. Ответ будет найден в самом ходе взаимного истребления народов, и этот ответ может оказаться беспощадным приговором для всей нашей цивилизации.
Л.Троцкий
13 марта 1934 г.