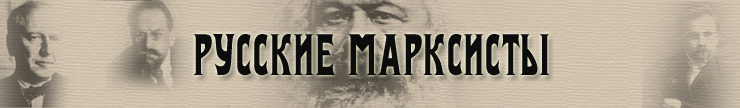Памяти Юрия Лутовинова.
Внезапная трагическая кончина товарища Юрия Лутовинова заставила некоторых товарищей говорить в печати о его личном надрыве и надломе. Я меньше встречался с товарищем Лутовиновым на работе, чем многие из членов ВЦСПС, но думаю, что знал его хорошо, что со мною он был очень искренен и что поэтому я могу о его надрыве кое-что сказать. А стоит сказать, потому что этот надрыв товарища Лутовинова не бросает ни на него, ни на нас никакой тени, а рельефно выдвигает некоторые больные вопросы пролетарской революции. Я не знаю, стоит ли смерть Лутовинова в связи с этими его переживаниями, о которых хочу говорить, но эти переживания терзали не одного Лутовинова. Пусть смерть его поможет другим вдуматься в эти вопросы.
Товарищ Аросев пишет, что Лутовинов неслыханно больно переживал всякую тяжелую мелочь рабочей жизни в советском строе. Если отбросить слово "мелочь", если сказать, что Лутовинов переживал с неслыханной мукой страдания рабочего класса в период гражданской войны, что все противоречия нэпа терзали его душу как глубочайшее личное сомнение, то это будет правда. Неравенство социального и партийного быта, бюрократические язвы причиняли ему громадные страдания. Он буквально выл против них. В этом выражалось непонимание того, что пролетариату нельзя разом прыгнуть от капитализма к социализму, да притом еще в такой мелкобуржуазной стране, как Россия. Один раз в Берлине, где он работал в качестве заместителя торгпреда товарища Стомонякова, мы долго бродили по темным улицам и говорили об этом вопросе. Я ему на следующий день принес старую статью голландского марксиста Антона Паннекука, написанную задолго перед войной, в которой Паннекук высказывал мнение, что захват власти пролетариатом даст ему в руки только рычаг для изменения направления социального развития, но не сумеет в короткое время изменить социальных отношений; что диктатура пролетариата только предрешает, что отныне пролетарский интерес будет руководящим, но не сможет в короткое время обеспечить пролетариату удовлетворение его законнейших экономических, культурных и бытовых потребностей. Когда я перевел ему это место, он ответил мне: так-то так, но это очень трудно.
В Лутовинове выражалось нетерпение пролетариата. Столько веков он страдал, наконец захватил власть, и как же это, чтобы он не мог отряхнуть с себя весь гнет нищеты и неравенства. Он видел мозгом все затруднения, но вся его натура бунтовала против них. И это противоречие между логикой разума и чувства накладывало на него трагический отпечаток внутренней разорванности и неуравновешенности. Лутовинов, как немногие, был привязан к партии. В самое тяжелое время борьбы в партии с направлением так называемой рабочей оппозиции он никогда не думал о разрыве с партией, но всякое столкновение на почве наболевших вопросов приводило его в глубочайшее волнение. А так как сам он не умел поладить с собой самим и своими сомнениями и высказывал их в неслыханно острой форме, то доходил часто до конфликтов с товарищами. Переходя от нападения к этой свойственной ему грубой, но сердечной искренности, он заставлял умолкнуть всю злобу и превращал товарищей, пять минут тому назад готовых взять его за глотку, в своих друзей. В нем не слышалось этой спокойной равномерной поступи рабочих батальонов, о которой когда-то говорил Лассаль, в нем были и нетерпеливость и скачки. Если бы такое настроение жило в широких рабочих массах, то в моменты затруднений это приводило бы революцию к глубоким потрясениям. Как он не мог примириться с медленным ростом социалистических элементов после захвата власти, с медленным исчезновением нищеты, так же он не мог примириться с тем, что пролетариат, захватив власть, должен очень долго и мучительно учиться владеть ею.
Я его наблюдал на посту заместителя берлинского торгпреда. Отношения между ним и товарищем Стомоняковым были не дружеские, а прямо любовные. Он страстно любил Стомонякова за его преданность делу, бескорыстие, неутомимость в работе, но когда товарищ Стомоняков, доверив ему руководство транспортной частью торгпредства, контролировал его работу, зная, что Юрий, несмотря на свой большой талант, не сможет сразу справиться с громадным и новым делом, Лутовинов бунтовал всем своим существом. Как же это он, потомственный пролетарий, луганский металлист, старый большевик, может быть под подозрением, что не справится с делом, с которым за деньги справлялись всякие специалисты. И никакие уговоры друзей, которые, по его предложению, знакомились с вопросом, не могли его убедить, что здесь со стороны Стомонякова нет никакого высокомерия интеллигента, интеллигентского недоверия к рабочему. Он не видел проблемы, заключающейся в том, что власть есть не только власть, но и знание. Мы должны были захватить власть в свои руки, чтобы пролетариат мог приобрести себе это знание, но, взяв ее, мы должны прибегать к очень сложным мерам, которые, не позволяя собственникам буржуазного опыта вырвать эту власть у рабочего класса, в то же время помогли бы рабочему классу научиться овладеть всеми элементами этого чужого знания. Непонимание этого положения вызвало у Лутовинова неудовлетворенность работой, за которую всегда брался с большим воодушевлением.
Повторяю, я не знаю, что именно толкнуло Юрия на самоубийство. За два дня до смерти я разговаривал с ним долго, получил впечатление, что он оживлен и менее неуравновешен, чем обыкновенно. Сегодня мы его хороним. Мы сохраним о нем память не только как о хорошем революционере, преданном всей душой делу коммунизма, но как и о революционере, связанном неслыханно интимно с рабочей массой, никогда от нее не отрывавшемся, как о чутком, сердечном товарище. И многие, которые его знали и любили, над его могилой более чутко, более глубоко вдумаются во все затруднения пролетарской революции. Она не так проста, как нам всем казалось, когда мы в нее ринулись. И надо научиться решать все личные сомнения и затруднения под углом зрения ее развития. Может быть, смерть Юрия Лутовинова заставит нас говорить более открыто, более ясно об этих затруднениях развития революции. Братская память Юрию Лутовинову!
10 мая 1924 г.