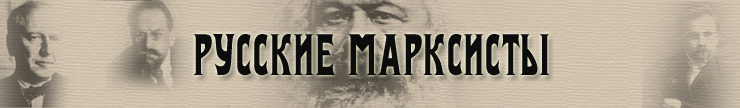Карл Радек.
Автобиографический очерк (1927 г.)
Печатается по книге «Деятели СССР и революционного движения в России: Энциклопедический словарь Гранат» — Репринтное изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 593-609. Статья незначительно отредактирована для удобства чтения. — /И-R/
Радек, Карл Бернгардович, род. в 1885 г. во Львове, в Восточной Галиции.
На пятом году жизни потерял отца и воспитывался матерью, которая была народной учительницей в городе Тарнове в Западной Галиции, где и кончил гимназию. Вся семья матери состояла из самоучек, жадно стремящихся к культуре. Так как польская культура — клерикально-католическая, то источником образования семьи матери была, как всех евреев Галиции, классическая германская литература, с ее общечеловеческими, гуманитарными идеями. «Натан Мудрый» Лессинга был любимой книгой старшего брата матери, пивовара, который в свободное от работы время усвоил ряд европейских языков и пожирал философскую литературу. Гейне был любимым писателем другого дяди, офицера австрийской армии, который трогательнейшим образом помогал матери.
С малых лет я читал по-немецки, пользуясь книгами, оставшимися от отца, среди которых «Всеобщая история» немецкого демократа Ротека играла главную роль. Но скоро в школе я попал под влияние польской литературы и польской истории. Польский патриотизм пленил меня, несмотря на его католическую оболочку. Я и ее принял. И до тринадцатого года жизни был не только польским патриотом, но и имел склонность к католицизму. Вопрос о причинах раздела Польши, о средствах ее восстановления, чтение старой демократическо-патриотической литературы, которая видела причины упадка Польши в господстве шляхты, которая связывала будущее Польши с международным революционным движением, толкнули меня к социальным вопросам. Само собой понятно, что большую роль играла при этом и нужда, царившая в нашей семье — матери приходилось кормить, воспитывать меня и сестру на нищенские гроши — нужда в нашем окружении, состоявшем из бедных ремесленников. Когда мне было десять лет, я в деревне на каникулах услышал от старого батрака рассказ о крестьянском восстании 46-го года, когда крепостные крестьяне вырезали польских помещиков при нейтралитете австрийского правительства, которое таким образом пыталось покончить с опасностью польской дворянской ирреденты. Центром этого движения был весь район над реками Вислокой и Белой, т.е именно район, в котором я воспитывался. Этот рассказ, корригирующий мои представления о событиях, почерпнутые из патриотических брошюрок, которые скрывали классовые причины восстания и сваливали всю вину на подстрекательство австрийской бюрократии, потряс меня до глубины. От него дунуло на меня первым впечатлением большого революционного движения, и я с жадностью стал прислушиваться к тому, что делается в крестьянстве.
А крестьянство в Галиции переживало уже тогда полосу политической мобилизации. Среди него работали крестьянские партии людовцев (народники), католический ксендз Стояловский, одно время проклятый Папой, жестоко преследуемый правительством и дворянством, ищущий помощи у социал-демократии. Я начал прислушиваться к сведениям о социал-демократии. Первое крупное впечатление о ней я получил, будучи еще ребенком, когда читал в газетах о ее борьбе за всеобщее выборное право, когда читал о сценах парламентской обструкции против графа Бадени и об уличных демонстрациях в Вене. Как сегодня помню, какое впечатление на меня произвела картина из венского парламента, когда полиция выносила на руках рабочих депутатов и когда Хибеш, вождь горнорабочих, вырвавшись верхней частью тела из рук полиции, стучал головою по каменным лестницам парламента, влекомый за ноги полицейскими.
С первым рабочим я познакомился, когда мне было лет четырнадцать. Я ходил ежедневно в пять часов утра в городской парк читать. И в одно воскресенье меня задержал при выходе из парка строительный рабочий Стажик, неграмотный, и спросил меня, не могу ли я ему прочесть газету. Он вынул из кармана социал демократическую газету «Напшут» («Вперед»), и я должен был ему ее прочесть от начала до конца. От него я узнал, что в городе имеется профсоюз шапочников, текстилей и несколько человек организованных строителей. Вошедши в связь с ним, я начал получать от него социал-демократические брошюрки и издания зарубежной ППС, которые дали мне смутное представление о героической борьбе польского пролетариата против царизма. Будучи учеником гимназии, я начал поддерживать тайную связь с этой группой рабочих В маленьком помещении в котором они собирались, состоявшем из одной комнаты квартиры еврейского пекаря, я нашел шкаф с немецкой социал-демократической литературой. Шапочники принадлежали к обще-австрийскому союзу, который рассылал своим отделениям библиотечки на немецком языке. Там я нашел Каутского-Эрфуртскую программу», Бебеля «Женщину и социализм», речи Лассаля, Меринга «Историю германской социал-демократии». В продолжение года я запустил школьную учебу, читая днем и ночью эту литературу. Усвоив азбуку социализма, я, понятно, взялся за пропаганду в гимназии. В гимназии существовала традиция нелегальных организаций. Я сам принадлежал к патриотической нелегальной организации, которая ставила себе неизвестные мне ближе цели и которая нас, мальчиков, посылала поздно вечером на кладбище для испробования наших сил и нашего характера. Эта организация в дальнейшем произвела покушение на собственника большого пивоваренного завода Геца, чтобы от него добыть деньги на освобождение Польши. Старший мой товарищ по гимназии, который это покушение производил, был арестован и получил четыре года каторги. Это произвело тогда громадную сенсацию, и для исправления наших мозгов приезжал инспектор всех галицийских школ, консервативный историк Бобжинский. На два года трагическая развязка запугала нас, но потом, когда в моих руках очутились социалистические брошюры, я взялся за организацию новых кружков на социалистической основе. В состав их входило около 20 человек, между прочим, известный теперь в Польше актер Стефан Ярач и Марьян Кукель, польский военный историк и начальник военной академии освобожденной Польши. Социализм объединялся в наших глазах со стремлением к независимости Польши.
О марксистской социал-демократии Польши и Литвы мы ничего не слышали. Разгромленная арестами 1896 г., она начала в более широком размере выступать публично только в 1902-1903 году. Патриотизм, демократия, социализм — в этих трех словах, являющихся заголовком сборника статей ветерана польского патриотического социализма — Болеслава Лимановского, выражалась совокупность наших политических идей. Но встречаясь с рабочими, я должен был заняться вопросами их ежедневной борьбы, вопросами охраны труда, страхования, заработной платы, и я чувствовал что эта их борьба за их ежедневные требования не увязывается с борьбой за независимость Польши, что она ведет не к сепаратной борьбе польских рабочих трех частей, на которые была разделена Польша, а к совместной борьбе польских рабочих Австрии, Германии и России за вопросы, выдвигаемые развитием этих государств. Я начал читать польскую прессу Австрии, Германии и Царства Польского, начал выписывать центральный орган германской социал-демократии «Форвертс» и лейпцигскую «Народную Газету», главный орган левого направления германских с.-д. Борьба с ревизионизмом, которая велась в этой газете со страстностью и решительностью Мерингом, Розой Люксембург, ставила предо мною вопросы социал-демократической тактики, и я уже тогда начал чувствовать неувязку в своем мировоззрении. Это чувство усилилось, когда в 1901 г. я прочел «Анти-Дюринга» Энгельса и первый том «Капитала». Наша агитационная работа в гимназия не ушла от внимания наших учителей. Некоторые из них, как Новицкий, один из первых социалистических поэтов Польши, или как известный историк польской литературы, Тадеуш Пини, помогали нам, защищали нас, другие травили. Наконец, терпение властей кончилось. В 1901 г. летом, в годовщину битвы под Грунвальдом, состоялся большой публичный митинг крестьян в городишке Домброво, центре польского крестьянского движения в Западной Галиции. Из этого района происходили некоторые мои товарищи по гимназии, и мы, по приглашению крестьян, поехали на крестьянских телегах на митинг. Я тогда в первый раз в жизни выступал на большом митинге на рынке с речью. Речь эта направлена была не только против помещиков, не только против капиталистов, но и против австрийского, германского и русского правительства и кончалась призывом к совместной борьбе рабочих и крестьян за независимую социалистическую Польшу. После митинга крестьяне нас угощали, и один старый крестьянин, который в своей жизни, наверное, видел не одно предательство хорошо начинающих интеллигентов, гладя меня по спине, говорил мне ласковым голосом: «Смотри, не предавай». Это выступление вызвало корреспонденцию в антисемитской краковской газете «Голос Народа», написанную адвокатом Галецким, теперешним воеводой Западной Галиции. И однажды я, возвращаясь из городского парка утром, узнал от директора гимназии, что я исключен.
Благодаря настоянию учителя польской литературы Тадеуша Пини, приехавший на экзамен гимназии инспектор польских гимназий Герман, переводчик на польский язык песни о Нибелунгах, вызвал меня и спросил, не могу ли я с социальной революцией подождать годик, когда кончу гимназию. Когда я после долгой дискуссии на это согласился, он разрешил мне кончить гимназию в Тарнове, но мне все-таки не хотелось ждать, и в скором времени я провалился с пачкой социалистической литературы, был второй раз исключен из гимназии, но все-таки с предоставлением мне права держать экзамены на аттестат зрелости в другом городе.
Мать очень волновалась, боясь, что меня провалят, а у нее отберут право на учительство; я потерял уроки, на которые жил, но был очень счастлив. Я взялся открыто за организацию рабочих. После двух-трех месяцев организационной работы я поехал в Краков и уговорил редактора краковского «Напшода», Геккера, приехать к нам с публичньм докладом. Геккеру я очень многим обязан: несмотря на свой социал-патриотизм, он зачитывался классической социалистической литературой, знал ее хорошо и помог мне начать читать систематически. От него я узнал, понятно в искаженном виде, о позиции Розы Люксембург в польском вопросе и о том, что один из молодых членов галицийской социал-демократии, Зигмунд Жулавский, является ее сторонником. Я поспешил познакомиться с Зигмундом Жулавским, который вскоре занял пост секретаря немного выросших за это время профсоюзов в Тарнове, и от него получил первую литературу социал-демократии Царства Польского, первые номера великолепного марксистского журнала «Пшеглонд Социал-демократичны», издававшегося Адольфом Варским, Розой Люксембург и Тышкой. Этот журнал, а особенно статьи Варского произвели на меня ошеломляющее впечатление. Из них я узнал, как польские марксисты ставят программные вопросы польского движения, и порвал внутренне с идеологией польского социал-патриотизма. Весь этот год прошел в чтении марксистской литературы-тогда появились первые тома юношеских работ Маркса, изданные Мерингом, и они ввели меня в лабораторию, в которой родился марксизм-и в практической работе среди пекарей, шапочников, строительных рабочих. Летом 1902 г. я держал экзамен на аттестат зрелости и, получив его, начал делать первые шаги на литературном поприще. Я написал первые свои три статьи детскую работу об историческом материализме, напечатанную в социалистическом журнале молодежи «Промень» («Луч»), статью о положении пекарей в Тарнове в газете «Напшуд», за которую меня хотели побить мастера, и статью о прекрасной книге Макса Шиппеля «История производства сахара». У местного адвоката Симхэ я нашел комплект научного журнала германской социал-демократии, который я читал номер за номером.
Осенью я отправился в университет в Краков, где решил не столько заниматься юридическими науками, как завоевывать галицийскую социал-демократию для последовательной марксистской политики. Этого я должен был добиться совместно с Зигмундом Жулавским, который, между прочим, говоря, теперь в качестве председателя центральной комиссии польских профсоюзов и депутата польского сейма совершенно эту задачу отбросил и является правоверным ППС'овцем и решительным врагом коммунизма. Меня включили, несмотря на мои взгляды, в редакцию «Напшода», ибо, как смеялся Дашинский, вождь галицийской социал-демократии, детская болезнь радикализма не долго продолжается, и всякий начинал свою партийную работу с убеждением, что с него начинается история партии. Этот год, прошедший в большой материальной нужде в энергичной умственной работе, в работе среди краковских рабочих, закончил первый период моей жизни. Я познакомился с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, революционная страсть, товарищеская прямота и сердечность которого ускоряли мое развитие, и мне стало ясным, что завоевания социал-демократии в мелко-буржуазной стране без промышленного пролетариата не так легки, что более продуктивно будет работать в Царстве Польском, но для этой работы надо серьезно подготовиться. Поэтому после конфликтов с Геккером, на которого я напал на публичном собрании, я уехал в Швейцарию, без копейки в кармане, но с надеждой прокормиться сотрудничеством в марксистском еженедельнике, издававшемся в Варшаве под названием «Глос», в котором руководящую роль играл главный публицист социал-демократии Адольф Варский. В этом журнале я дебютировал в 1904 г. статьей о развитии крестьянского движения в Галиции и начал еженедельно помещать статьи о рабочем движении Запада, рецензии на книги по вопросам польской экономики и международного рабочего движения. Я начал тогда переписываться с Розой Люксембург и был неслыханно горд, когда Варский доверил мне перевод рукописи Каутского, представлявшей вступление к новому изданию «Коммунистического Манифеста».
Осенью, оставив в Кракове неуплаченные долги, с головою, полной веры в будущее, я отправился в Швейцарию. В Швейцарии я ушел в теоретическую учебу и в участие в рабочем движении. Для учебы условия были значительно лучше, чем в Кракове. Великолепно оборудованная университетская библиотека, содержавшая все необходимое для студента по истории экономики, в государственной библиотеке — громадный материал по истории рабочего движения. Занятия пошли по этим двум основным руслам. В так называемом «Международном обществе» — организации иностранных рабочих Швейцарии, в первую очередь немцев, — прекрасная библиотека старых социалистических изданий, читальня с газетами не только центральными, но провинциальными рабочими газетами, еженедельные собрания, на которых обсуждались все вопросы рабочего движения, — все это давало возможность, несмотря на маленькие размеры Швейцарии, шире охватить международную действительность, глубже продумать вопросы рабочего движения. Заграничная ячейка Социал-демократии Польши и Литвы, в которую я вступил начала связывать меня с русским рабочим движением. Она входила в федерацию социал-демократических организаций России, и через нее я познакомился с рядом русских социал-демократов. В Берне учился тогда Зиновьев, из известных бундовцев там жил Медем выдававшийся блещущим красноречием там я в первый раз слышал выступавшего на собрании Ленина, но из его речи не понял ни слова, там в первый раз слышал Плеханова, произведшего на меня лично отвратительное впечатление. Гремела русско-японская война, революция бросала свои тени, раскол на меньшевиков и большевиков заставлял занимать позицию по отношению к основным вопросам революции.
Позже я переехал в Цюрих, где встретился среди иностранных рабочих, организованных в общество «Единство» — с сильными влияниями анархо-синдикализма и анархизма. В первый раз пришлось публично выступать против полуанархиста, члена социал-демократической партии, а теперешнего коммуниста, доктора Брупбахера, который на собрании анархистов самым резким образом нападал на швейцарскую социал-демократию, как на чисто оппортунистическую организацию. Будучи врагом реформизма, я с симпатией относился к его критике, но был глубоко возмущен тем, что он выносит сор из партии на враждебное собрание. Я на него так обрушился, что анархисты чуть не побили меня.
Грянула русская революция и меня потянуло из Швейцарии в царскую Польшу на непосредственную партийную работу. Уже в 1904 г, еще будучи членом галицийской социал-демократии, я переписывался с Розой Люксембург и сотрудничал в «Народной Газете», издававшейся ею в Познани. И теперь я обратился к ней с предложением поездки в Польшу. Люксембург предложила мне сначала поработать за границей, где существовал литературный центр партии, и скоро я получил приглашение переехать в Берлин. Там мне не пришлось долго жить. Но за эти несколько недель, прошедших за литературной работой в библиотеках, я присмотрелся к рабочим собраниям, организациям, с глубочайшим трепетом познакомился с Каутским, упрочил литературные связи с лейпцигской «Народной Газетой», издававшейся Мерингом и Иекком. С последним я завязал сношения еще из Швейцарии, откуда посылал ему материалы о польских участниках Первого Интернационала.
Пришел день, когда я с нелегальным паспортом переезжал русскую границу, не зная ни одного слова по-русски. Первый человек, которого я встретил в Варшаве на нелегальной квартире, был Феликс Дзержинский, второй — Леон Иогихес (Тышка), главный руководитель нашей партии. Я был сразу определен в редакцию центрального органа партии, принимал участие в выпуске первого легального ежедневного издания партии «Трибуны» и ушел с головою в агитационную работу среди варшавских рабочих масс. В первый раз прикоснулся к пролетариату громадных заводов, выступал на многотысячных митингах, видел, как быстро растет в революционной борьбе масса, и стряхивал с себя пыль социал-демократических традиций. В Варшаве проходил прекрасную школу. Если непосредственное участие в широком революционном массовом движении, участие в создании массовой революционной партии и массовых профсоюзов в огне революции само по себе уже было достаточно, чтобы перетряхнуть все, чему я научился в первую очередь в школе германской социал-демократии, то этот процесс перетряхивания был тем более плодотворен, что он совершался в ближайшем сотрудничестве с такими прекрасными революционерами, как Роза Люксембург, приехавшая тогда в Варшаву, Тышка, и Варский.
Самое сильное влияние имел на меня Тышка, который был лучшим редактором, какого мне приходилось встречать в жизни Для него революционная газета не была сбором революционных статей, а была боевым орудием, как пушка, в котором всякая статья, всякая малейшая заметка была винтиком, обслуживающим центральные задачи дня. Тышка не редактировал готового материала, составленного литераторами, он, центральный политик партии, сам составлял номер газеты, как боевой снаряд, и распределял задачи между пишущими. Двумя-тремя оборотами он умел связать одну статью с другой, и наша легальная и нелегальная пресса концентрировала на себе весь натиск всей буржуазной прессы и вела одна атаку против нее. Близкая связь сотрудников с партийными массами обеспечивала нашей прессе характер газеты, которой масса дышала. Тышка не допускал никаких литературных излишеств, самоволия. Все, что сотрудник писал, должно было отвечать цели, поставленной партией газете в данный момент. Скоро были арестованы Тышка и Роза Люксембург, провалился Варский; в газете остались Мархлевский, Малецкий и я. Одновременно началась выборная кампания в первую Думу. Мне приходилось с группой рабочих захватывать типографии буржуазных газет, дабы обеспечить ежедневное издание нашего нелегального центрального органа. Это вызывало сцены, часто полные юмора, как, например, дискуссия о свободе печати с редактором либеральной газеты Кемпнером, который перестал болтать и покинул свою либеральную позицию, увидев в руках наших боевиков браунинги. Одновременно приходилось выступать на легальных собраниях, созываемых буржуазными партиями, принимавшими участие в выборах в первую Думу. Наша партия выборы не только бойкотировала, но срывала выборные собрания, часто вооруженной силой.
В марте или апреле 1906 г. я провалился в Варшаве, но так как я взят был на улице случайно, — «лицо не понравилось», — то партийным товарищам удалось освободить меня из тюрьмы за деньги. Через две недели снова провалился. На этот раз сел уже на полгода, которые провел великолепно на «Павиаке»*, изучая русский язык, читая Ленина, Плеханова и «Теории прибавочной стоимости» Маркса, тогда только что изданные Каутским. В тюрьме написал первую статью в «Neue Zeit» (теоретический орган германской социал-демократии) о вопросах профдвижения в Польше и был ужасно горд, когда получил номер журнала Каутского со своей статьей. Выйдя из тюрьмы, был делегирован партией в центральную комиссию профсоюзов, редактировал ее орган, принимал участие в руководстве рядом забастовок. Благодаря знакомству с русским языком, приобретенному в тюрьме, начал ориентироваться более точно в русских партийных спорах, от которых наша партия стояла в значительной мере в стороне. Мы поддерживали вообще большевиков, в первую очередь в их борьбе против меньшевистских тенденций коалиции с либеральной буржуазией — в Польше либерализм был ничтожен, но безусловно недооценивали революционной роли крестьянства, будучи под впечатлением польских отношений, где кулак играл еще центральную роль в крестьянском движении. Участие в профессиональном движении усилило мой интерес к непосредственной борьбе рабочих масс за улучшение своего положения, мое внимание к вопросам быта рабочего класса. Весной 1907 г. я «сел» снова, был перевезен из Лодзи немедленно в «Десятый павильон» варшавской крепости. Там в одиночке провел наиболее плодотворные, в смысле учебы, месяцы своей жизни, переработал сразу Адама Смита и Рикардо (на них учился английскому), три тома «Капитала», занимался много чтением книг по логике, упражнялся в формальной логике на диалогах Платона, к которому имел влечение еще с гимназической скамьи, когда, благодаря прекрасному учителю греческого, читал эти диалоги в оригинале и заучивал многие наизусть.
* Павиак (Павяк) — известная тюрьма 1835—1944 гг., теперь, музей. — /И-R/
Зимой был выслан в Австрию и по приказу ЦК немедленно через Берлин отправился в Териоки, где находился и Варский и Тышка, бежавший с каторги, куда приезжал Дзержинский, где находилась значительная часть русского Центрального Комитета. Там в первый раз ближе познакомился с вождями русской партии. В Териоках, откуда мы издавали центральный орган партии, мы жили только несколько месяцев. Полицейские условия заставили польский ЦК перевести нас за границу. Весной 1908 г. я отправился с Тышкой через Швецию в Берлин, где была организована редакция центрального органа партии, теоретического журнала партии «Пшеглонд Социальдемократичны» и ряда других партийных изданий. Я вошел в состав их редакции, но работа в них не заполняла моего времени полностью, и я начал сотрудничать постоянно в левой социал-демократической печати Германии и вошел вплотную в германское социал-демократическое движение.
Это был 1908 г., год балканского кризиса, приближался новый мароккский кризис, столыпинская Россия перешла на почву активной политики на Балканах, в Константинополе и в Персии. В Турции произошла революция, в центре вопросов стала международная политика. Я заинтересовался ею сильно еще во время русско-японской войны. Теперь взялся изо всех сил за изучение литературы, посвященной современному империализму, и следил за его нарастанием по всей международной печати. Я начал писать ежедневно о вопросах международной политики в лейпцигской «Народной Газете», франкфуртском «Голосе Народа», в бременской партийной газете, в «Форвертсе» — центральном органе германской социал-демократии, в «Neue Zeit», теоретическом органе герм. с.-д., и в польском теоретическом органе «Пшеглонд». Познакомившись с движущими силами международной политики, с их освещением в социал-демократической печати, я сразу натолкнулся на теоретическую неувязку в позиции социал-демократических партий, на их пацифизм, обрекавший на полную бездеятельность перед лицом приближающихся громадных опасностей, на переоценку контр-революционного значения царской России, переоценку, которая толкала к антирусской ориентации, являвшейся, как оказалось позже, мостом к позиции 4 августа 1914 года. Осенью 1908 г. я выступил с систематическим изложением своих взглядов на международное положение, на задачи и ошибки социал-демократии в бременском партийном органе. Вызванный в Лейпциг, я принял на себя ежедневную разработку в лейпцигском партийном органе вопросов международной политики, не переставая по этим вопросам сотрудничать и в других партийных органах. Одно время я слушал лекции по истории Китая в лейпцигском университете и работал научно в области внешней политики в семинарии Лампрехта. Эта работа, а особенно разработка истории отношений социал-демократии к вопросам международной политики, начиная с позиции, занятой Марксом в 48 году, по первоисточникам привела меня к убеждению, что социал-демократия находится на грани двух эпох, что традиции социал-демократических политиков эпохи освободительных войн в Западной Европе мешают ей в выработке правильных взглядов, что такой же бессмыслицей является делать зависимой точку зрения рабочего класса на надвигающиеся конфликты от того, кто дипломатически начнет войну, как и вести политику сближения с либеральной буржуазией для того, чтобы избежать войны при помощи пацифистских договоров между буржуазными империалистическими державами, которые будут на деле договорами о дележе колоний. Против этой политики выступала и часть реформистов, требовавшая участия партии в борьбе за колонии, что заставило меня заняться подробно колониальной практикой европейских держав. К концу 1910 года у меня сложилось убеждение, что перед лицом надвигающихся военных опасностей радикальная социал-демократия должна перейти от радикальных протестов против капитализма непосредственно к массовой подготовке революционной борьбы.
За все эти годы я принимал непосредственное участие в пропагандистской и агитационной работе среди немецких рабочих, был очень близко связан с наиболее революционно настроенным социал-демократическим молодняком, и поэтому вопрос борьбы с империализмом стал предо мной сразу, как вопрос вообще борьбы за изменение характера германского и международного рабочего движения. Вопрос борьбы с империализмом связался ближайшим образом с вопросом агитации за всеобщую стачку и вообще за внепарламентские методы борьбы рабочего класса. Переехав по личным обстоятельствам обратно в Берлин, а позже на два года в Бремен, я имел возможность ближе по этим вопросам сойтись с Розой Люксембург и голландским революционным марксистом Антоном Паннекуком и проверить свои взгляды в близком соприкосновении с ежедневной практикой социал-демократической партии и ее представителями всех направлений. Германская социал-демократия представилась мне при близком соприкосновении с ее буднями чем-то совершенно другим, не соответствующим той картине, которая существовала в головах польских и русских революционеров, изучающих ее по решениям съездов или по литературе. Агитация партии с парламентской трибуны и массовые собрания велись в чисто реформистском духе. В жизни профсоюзов не было даже попытки связать их повседневную работу с революционными задачами рабочего класса. Несмотря на то, что опасность войны, рост вооружений, полное исчезновение возможностей социально-политических завоеваний ставили вопрос о недостаточности парламентской борьбы, о необходимости выхода из рамок реформистской политики, о необходимости перехода на рельсы массовой революционной агитации и перехода к непосредственным массовым действиям, — вопрос о всеобщей забастовке встал перед германской социал-демократией только в связи с русской революцией. Всеобщая забастовка в России в 1905 г вызвала громадный энтузиазм в рабочих массах Германии. Под влиянием этого настроения Бебель предложил на съезде в Иене в 1905 г. резолюцию, которая допускала всеобщую забастовку, как средство борьбы на случай, если реакция будет покушаться на всеобщее избирательное право в парламенты. Под влиянием поражения русской революции профсоюзная бюрократия начала работать над ликвидацией этого шага вперед. На Маннгейском съезде Бебель дал в значительной мере ход назад. Но обострение борьбы с прусской реакцией, заседавшей в прусском ландтаге, выбираемом на основе плутократического избирательного права, поставило вопрос о борьбе за всеобщее право в прусский ландтаг. Было ясно, что прусские юнкеры не сдадут позиции без большого массового нажима и что борьба за всеобщее избирательное право в Пруссии может разрастись в общую борьбу с германской капиталистической реакцией. Поэтому крайняя левая партия*, во главе с Розой Люксембург и Паннекуком, начала кампанию за всеобщую забастовку для завоевания всеобщего избирательного права в Пруссии. Пропаганда и агитация этой идеи охватывала весь комплекс вопросов германской и международной политики. В ней увязывалась борьба с империализмом и опасностью войны с борьбою против внутригерманской реакции. Свое выражение борьба эта нашла в выдвинутом Розой Люксембург требовании, чтобы партия, спрятавшая в своей программе лозунг республики, этот лозунг бросила в массы.
* Здесь ошибка: не партия, а фракция. — /И-R/
Сказанное показывает и силу позиций левых радикалов и ее слабость. Всякая революционная борьба в Германии должна была перерасти в борьбу за социализм. При остроте классовых противоречий в Германии иначе и быть не могло. Все мы это знали, но у нас отсутствовала система переходных требований подводящих программно к борьбе за социализм, а главное отсутствовала конкретизация лозунга о диктатуре пролетариата. В живых дискуссиях, которые велись в наших рядах и которые находили выражение в прессе, мы высказывали убеждение, что завоевание власти пролетариатом невозможно без разрушения буржуазного государства (Каутский клеймил эту идею в полемике с Паннекуком, как анархизм); но подошедши вплотную к вопросу о диктатуре пролетариата, как государственном переходе от капитализма к социализму, мы этого вопроса не разработали. Время от 1910 г. по 1913 г., время создавания левого радикального направления в германской социал-демократии, было для меня заполнено большой работой. Я писал ежедневно в бременской и лейпцигской народных газетах; кроме того, издавал для партийной печати — два раза в неделю — бюллетень, посвященный мировой политике, печатавшийся регулярно в пятнадцати газетах. В 1912 г. издал работу о германском империализме, которая пыталась показать историческую линию его развития и ставила вопрос о социалистической революции. Борьба, которую мы вели в рядах германской социал-демократии, привела к расколу радикального крыла, к его распаду на центр, возглавляемый Каутским и Бебелем, и левую радикальную часть, предшественницу теперешней коммунистической партии. Кроме названных выше уже Розы Люксембург и Паннекука, ближайшее участие в этой работе принимали теперешние члены коммунистической партии Германии: Клара Цеткин, Август Тальгеймер, Брандлер, Вальхер, Фрелих, Пик, с которыми я уже тогда связался узами не только боевого сотрудничества, но и личной дружбы. В то время, когда из нас, левых радикалов, сплачивалось ядро будущей коммунистической партии Германии, росла вражда наша не только по отношению к правым руководителям партии, но и к партийному центру; с каждым днем мы чувствовали больше, что нам с ним не по дороге. Но, находя живой отклик в массах рабочих в промышленных центрах Германии, мы были убеждены, что, когда, под влиянием обострения классовой борьбы, рабочие массы войдут в движение, то им удастся с легкостью побороть сопротивление партийного и профессионального бюрократического аппарата. Поэтому нам даже в голову не приходила мысль о необходимости раскола партии, как условии победы будущей германской революции. Но вскоре пришлось нам увидеть более наглядно, что представляет собой бюрократический аппарат германской социал-демократии.
Мой приятель Тальгеймер был редактором партийного органа в Геппингене в Вюртемберге. Геппинген — маленький город с быстро развертывающейся металлургической промышленностью, был, вместе с Штутгартом, центром радикального движения на юге Германии. И штутгартская и геппингская газеты находились полностью в наших руках. Правление вюртембергской социал-демократии опираясь на организацию неиндустриальных районов страны, находилось в беспрерывной борьбе с этими двумя радикальными организациями. Для успешного ведения этой борьбы оно решило свернуть шею геппингской газете, которая принадлежала несмотря на свой маленький объем к наиболее выдержанным органам левых радикалов. Для этой цели правление использовало факт, что геппингские рабочие, руководившие партийной организацией, из-за незнания законов допустили ряд ошибок при постройке типографии, которые могли их посадить на скамью подсудимых. По германским законам кооперативы могут принимать долговые обязательства только в известном процентном отношении к их собственному капиталу. Типография, основанная на кооперативных началах, имела долги выше нормы, допускаемой законом, и находилась в финансовом затруднении, как, между прочим, и много других партийных типографий. Тальгеймер не имел обо всем этом ни малейшего понятия. Когда он уехал в отпуск и я его замещал, вюртембергское правление предъявило вдруг к руководству организации ультиматум. Оно соглашалось ликвидировать задолженность типографии при условии слияния геппингского органа с реформистскими и снятия Тальгеймера. В случае несогласия на это организации, вюртембергский ЦК отказывался помочь газете, что должно было привести к банкротству и к процессу, который подвел бы руководителей геппингской организации под параграф о злостном банкротстве. Когда я узнал обо всем этом, я вызвал телеграфно Тальгеймера, мы мобилизовали партийную организацию и апеллировали к общегерманскому ЦК, не зная о том, что вся эта игра велась с ведома Эберта, второго председателя партии. Эберт приехал для разбирательства дел вместе с Брауном, теперешним премьер-министром Пруссии.
На совместном заседании руководителей геппингской организации и представителей обще-германского и вюртембергского ЦК мы доказали, что дело здесь идет о шантаже, об использовании финансовых затруднений лево-радикальной газеты для отдачи ее в руки оппортунистов. Тогда Эберт и Браун заявили нам, что они приехали для улажения конфликта, а так как мы на это не идем, то они прерывают заседание. Они отказали нам в протоколировании доказанных нами фактов. Но геппингские металлисты, придвинув столы к дверям, заявили Эберту, что его не выпустят с заседания пока то, что доказано, не будет запротоколировано. Взбешенный Эберт заявил нам: «В партии назрел леворадикальный нарыв, и мы его вскроем». Тогда мы поняли, во что превратился аппарат германской социал-демократии. Геппингская организация, не рискуя идти на полный развал, который последовал бы несомненно, если бы ее руководители была приговорены за злостное банкротство, должна была подчиниться. Борьбу пришлось вести Тальгеймеру и мне, причем против меня были пущены все средства, начиная с того, что, как иностранец в Германии, вдобавок перекочевывающий по политическим соображениям из одного города в другой, я не уплачивал регулярно партийных взносов, и кончая тем, что вследствие раскола в социал-демократии Польши и Литвы теперешний зам-предреввоенсовета Уншлихт и я, имея за собой варшавскую партийную организацию, были исключены из партии Главным Правлением. Борьба между оппозицией партийной в Польше, возглавляемой Ганецким, Уншлихтом. Малецким, Домбским и мною, с одной стороны, и главным правлением, возглавляемым Варским, Мархлевским и Дзержинским — с другой, не носила принципиального характера, а касалась организационных вопросов; она была бунтом выросшей во время революции массовой рабочей организации против заграничного центра, не понявшего, что одним из последствий резолюции является бóльшая самостоятельность рабочих). Прикрываясь моим исключением из польской социал-демократии, правление германской социал-демократии заявило, что не считает меня больше членом своей партии. На Хемницком партейтаге оно имело великолепный козырь в руках: какая-то темная личность иностранного происхождения смеет обвинять германский ЦК в коррупции. Геппингское дело было замято, но участники его знали уже, что такое представляет собой бюрократический аппарат германской социал-демократии. К чести германских рабочих я должен сказать, что несмотря на весь нажим партийной бюрократии, ей не удалось заставить бременских рабочих отказаться от меня. В продолжение недели шла борьба за то, может ли исключенный из партии быть главным политическим сотрудником бременской партийной газеты. Бременские рабочие, под руководством погибшего в 1919 г. моего друга Иоганна Книфа (в нем коммунистическое движение потеряло человека, соединявшего железную волю, талант организатора с недюжинными знаниями, человека, который, несомненно, был бы одним из лучших вождей германской компартии) и Антона Паннекука, отстояли мое право на руководство их органом, и в продолжение многих лет бременская газета представляла зрелище, невиданное в международном рабочем движении: исключенный из двух партий освещал в одной из лучших партийных газет не только все общие вопросы политики, но и все вопросы партийной тактики. Скоро междуфракционная комиссия российской социал-демократии ликвидировала бесследно личные упреки, поднятые против меня в пылу фракционной борьбы в Польше, и я мог бы на следующем германском партийном съезде достигнуть чести сделаться снова членом германской социал-демократии, если бы… история не повернулась так, что перестало быть честью для революционера быть членом германской социал-демократии. Съезд, на котором должно было заново стать мое дело, уже не состоялся. 1 августа 1914 года началась мировая война; германская социал-демократия перешла на сторону империализма.
Первая Мировая война. |
 |
Начало войны застало меня в Берлине. С момента убийства австрийского эрцгерцога было ясно, что мы стоим перед мировой войной. Недели, предшествовавшие началу войны, были неделями бешеной кампании в бременской газете. Зная, что скоро рот нам будет зажат, мы делали все для того, чтобы вдолбить рабочим массам, за что идет борьба и что надо бороться против опасности войны. В Берлине мы создали под руководством Либкнехта малую организацию, которая стремилась обострить демонстрации, созываемые социал-демократией, привести к столкновениям с полицией, чтобы заставить рабочие массы усилить борьбу. Тот факт, что брутальная берлинская полиция избегала всеми силами столкновения, говорил нам ясно, что правительство решилось воевать. Война была провозглашена. Рабочие, призываемые к оружию, были вполне дезориентированы. Партия молчала. По кабакам шла пьянка, пушечное мясо пыталось заглушить свою тревогу. Мы радикалы, метались, как угорелые, проклинали партию, что не дает сигнала хотя бы к массовым демонстрациям. Наиболее пессимистически настроенные боялись, что социал-демократическая фракция в парламенте воздержится от голосования, но не было такого пессимиста, который бы допустил, что парламентская фракция социал-демократии может голосовать за кредиты. Когда вечером 3-го августа вышедший из заседания парламентской фракции депутат Хенке известил меня, что фракция решила голосовать за военные кредиты, мы немедленно условились, что он будет голосовать против, что я до утра напишу декларацию, мотивирующую голосование, и что он попытается вокруг этой декларации собрать несколько левых депутатов. Я был вполне огорошен и только на пути в предместье, в котором жил, оставшись один в вагоне, понял, что случилось, что провалилась позорно в пропасть целая эпоха рабочего движения. Когда я утром вручал набросок декларации Хенке, по лицу его было уже видно, что он не решится плыть против течения. Либкнехт, которого я встретил еще 4-го, объяснял, почему и он не решился голосовать против: по его мнению, не подлежит сомнению, что правительство перейдет очень скоро к преследованиям партии, и тогда вся партия повернет фронт против войны. Я уже в это не верил. Социал-демократическая пресса представляла уже теперь смердящую клоаку, отравляющую своим зловонием рабочую массу. Вся она перешла на службу империализма.
В первые дни у меня, как, наверно, у многих других товарищей, было чувство, что незачем писать. Сорок лет продолжалась социалистическая пропаганда, и разве она сумела спасти хотя бы вождей социал-демократии от рокового четвертого августа? Но само собой понятно, что такие настроения могли продолжаться только несколько дней. Я взялся за работу и начал, несмотря на цензуру, в бременском партийном органе освещать характер войны. Большую помощь оказывали мне при этом детальное знакомство не только с книжной и брошюрной империалистической печатью, но и военные германские журналы, которые хвастались тем, как хорошо германский империализм подготовил войну. Цензура, видно, считала, что эти длинные вереницы цитат приводятся во славу осмотрительного германского правительства, но рабочие передовики великолепно понимали цель этих упражнений. В маленьком готайском органе начали свою кампанию Роза Люксембург и Меринг. Скоро начал откликаться штутгартский партийный орган, Либкнехт начал разъезжать по стране я прощупывать партийные организации, Роза Люксембург начала выступать в окрестностях Берлина. Раскол, происшедший в польской организации в двенадцатом году, создал, понятно, отчуждение между мною и Розой Люксембург. Но я держал ближайшую связь с Либкнехтом и Мерингом и через них был не только в курсе начинаний группы Розы Люксембург, из которой вышел впоследствии Союз Спартака, но и согласовывал свои действия с ними.
Так как я был наиболее близок к организации северо-запада, то поставил себе задачей собрание революционных сил в Гамбурге и Бремене и в связанных с ними городах. В Бремене, несмотря на то, что Пауль Фрелих и Иоганн Книф были мобилизованы на военную службу, старое ядро партийной организации осталось полностью в наших руках. Депутат округа и редактор партийной газеты Хенке держался очень неуверенно под напором профсоюзной бюрократии, но все-таки еще не рвал с нами, и газета была в наших руках. В Гамбурге организация была полностью в руках правых, но в партийных низах действовали доктор Лауфенберг, историк гамбургского рабочего движения, пользующийся в его рядах большим влиянием, и молодой агитатор Вольфгейм, вынесший революционную закваску из американской организации «Индустриальных рабочих мира». С ними я встретился в сентябре в Бремене, и мы решили начать издательство пропагандистских брошюр, направленных против войны. Лауфенберг относился недоверчиво к теоретической позиции Розы Люксембург, не хотел устанавливать непосредственной связи с ее группой, но обязался через меня координировать действия. В Берлине существовала частная школа марксистской пропаганды, руководимая большим чудаком, но очень стойким человеком, Борхардом. Борхард издавал перед войной популярный пропагандистский журнальчик «Лучи Света'', имевший значительное распространение в рабочих низах. Он без всякого колебания предоставил и свою пропагандистскую школу и журнал к услугам антивоенной пропаганды. Под видом лекций по истории английского империализма я читал в этой школе перед сотней рабочих лекции, которые должны были дать подготовку нашим пропагандистам для борьбы с предательством Шейдеманов. Автомобильные гудки, которые во время лекций сигнализировали приближение нескольких автомобилей, заставляли собравшихся думать, что с лекции отправимся прямо на Александер-плац в гостеприимное помещение берлинской полиции. Долго работа, проводимая мною, не могла быть скрытой. Социал-демократы знали великолепно все наши связи, и я скоро получил от Хейльмана — редактора хемницкого партийного органа, одного из самых ярких застрельщиков реформистской политики перед войной и одного из самых решительных застрельщиков социал-патриотической политики, письмо, в котором он давал анализ позиции, занимаемой нами. Он пытался уговорить меня, что если уж мы хотим занимать оппозиционную позицию, то пусть это будет не принципиальная позиция, а оппозиция, направленная на завоевание конкретных уступок со стороны правительства. Одновременно шла большая переписка со старым моим другом Конрадом Генишем, одним из лучших людей радикального направления, который после первых недель войны перешел на сторону социал-патриотического большинства. Я пытался его удержать, и эта наша переписка попала в руки гамбургских реформистов, которые ее напечатали брошюрой и пустили по организации. Атмосфера сгущалась.
Либкнехт уговорил меня отправиться в Швейцарию для налажения связей с итальянской партией и французскими интернационалистами. Это мне удалось, и в Швейцарии я условился с Робертом Гриммом, редактором партийного органа «Бернер Тагвахт», насчет нашей нелегальной переписки и насчет корреспонденции для его газеты. Он отдал полностью в распоряжение немецкой оппозиции свою ежедневную газету, и мы условились, что будет ее распространять в Германии, пока правительство не спохватится. Я виделся с Анжеликой Балабановой, которая жила в Швейцарии для связи с итальянским ЦК. Владимира Ильича, который, освободившись из тюрьмы в Австрии уехал в горы, я не мог найти, но манифест, выпущенный им от имени ЦК, произвел на меня громадное впечатление резкостью постановки вопросов. Я был вполне согласен и с оценкой войны и с оценкой Интернационала, содержавшимися в манифесте, но, находясь под влиянием обстановки германской социал-демократии, первых слабых шагов, которые мы делали в Германии, я считал, что путь к гражданской войне еще очень далек, что нельзя еще ставить вопроса о расколе. Троцкий, который тогда находился в Цюрихе, соглашался со мною насчет последнего, но был очень оптимистичен насчет революционных перспектив и упрекал меня в пессимизме по поводу доклада, который я читал в союзе иностранных рабочих в Цюрихе. Я имел тоже длинный разговор с Павлом Борисовичем Аксельродом, который, будучи противником точки зрения, проводимой социал-демократическими партиями, находил для нее тысячи объяснений, сбивавшихся в действительности на защиту социал-патриотизма.
Захватив все неизвестные в Германии документы, я вернулся обратно в момент, когда второй раз собирался германский рейхстаг. Либкнехт решился на этот раз голосовать открыто против кредитов с соответствующей революционной декларацией. Меринг и Роза Люксембург считали, что он должен это сделать только в том случае, если совместно с ним будет голосовать еще несколько левых. Они боялись, что если только он будет голосовать, то это произведет на массу удручающее впечатление полного его одиночества. Но из людей, на которых можно было полагаться, Ленч перешел на сторону социал-патриотов; Ледебур не решался восстать против партийной дисциплины; надежда была только еще на Рюле и Хенке. Обработка этого последнего была моей задачей. Совместно с Либкнехтом мы встретились с Хенке. Либкнехт прочел проект своей декларации. Хенке начал делать возражения, Либкнехт сразу согласился доверить мне составление декларации, обязываясь принять ее, если Хенке с нею будет согласен. Я вернулся домой и взялся за ее составление. Мы встретились снова втроем за несколько часов до заседания рейхстага второго декабря в кафе Иости, и Либкнехт и Хенке оказались довольными моим наброском. Но, несмотря на это, Хенке заявил, что голосовать против кредитов не будет и мотивировал очень открыто свое решение: профессиональная бюрократия в Бремене усилилась, среди рабочих не видно еще никакого движения, он — человек семейный, не может рисковать. Когда же Либкнехт ответил ему, что количество детей не может определять позиции революционера, Хенке ответил ему злобно, что ему легко говорить, ибо он материально независим, но, между прочим, вряд ли и Либкнехт посмеет один стать против партии. Либкнехт ничего ему не ответил. Мы отправились в рейхстаг. И я с галлереи парламента наблюдал, какое громадное впечатление произвел момент, когда одинокий Либкнехт поднялся, чтобы бросить свой вызов империалистскому миру. Вся пресса загудела. Либкнехта начали изображать сумасшедшим. Даже так называемые левые, не решившиеся поднять совместно с ним протест, начали шипеть по углам. Но все, что было еще в партии живого и революционного, подняло голову. Из конспиративных собраний, из партийных кружков борьба перешла на дневной свет, было поднято знамя, вокруг которого могли собираться рабочие. Корреспонденции, которые я посылал конспиративным путем в бременскую газету и которые там появлялись за подписью Парабеллум, обратили внимание социал-демократической и буржуазной печати, ибо они сигнализировали вовне консолидацию оппозиции, открыто развертывали ее идеологию. Догадки социал-демократической прессы насчет автора, кивки по моему направлению ставили вопрос, стоит ли рисковать арестом, не разумнее ли попытаться в Швейцарии создать конспиративную базу для оппозиции. Товарищи высказались за последнее, и я пробрался в Швейцарию.
На этот раз я сразу нашел Владимира Ильича и Зиновьева. Мы установили единство по основным вопросам. Разногласия существовали по вопросу о лозунге самоопределения наций; что касается открытого провозглашения лозунга раскола, то и Ленин считал его вопросом тактическим, не решимым зависимо от силы оппозиции во всякой стране. Я поселился в Берне, где читал лекции по империализму в партийной школе, писал в бернском и цюрихском партийных органах, писал для бременского органа и для «Лучей Света» Борхарда и организовал нелегальную связь с Германией через жену, которая работала врачом в Моабитском госпитале в Берлине. Ежедневное общение с Лениным, обмен мнениями убедили меня окончательно, что большевики являются единственной революционной партией в России, и уже на апрельской международной конференции женщин в пятнадцатом году я помогал в борьбе против центристских настроений Клары Цеткин. Одновременно мы совместно действовали среди молодежи, издававшей «Интернационал Молодежи», совместно вели пропаганду в швейцарской социал-демократии. Когда по инициативе Троцкого, Балабановой и Роберта Гримма началась подготовка к созыву Циммервальдской конференции, то уже была установлена связь части немецкой левой, так называемых северо-германских левых радикалов, большевиков, шведских левых, части швейцарских левых с большевиками. Жена, приехавшая на несколько недель в Швейцарию, возвращаясь в Германию, взяла с собою приглашение на Циммервальдскую конференцию.
К Циммервальдской конференции мы подготовлялись очень тщательно. Я написал тезисы, которые подверглись тщательной критике со стороны Ленина; он настаивал на придании им агитационного характера, на большей сжатости. Принципиальных разногласий между нами при составлении тезисов не было. Когда конференция собралась, картина соотношений на ней была следующая. Правое крыло представляли немецкие центристы с Ледебуром во главе, центр представляли французы, итальянцы, Коларов от болгар, Раковский, Мартов, Троцкий, спартаковцы с Манером во главе, Лапинский от левого крыла ППС, на левом фланге находилась наша группа в составе Ленина, Зиновьева от большевиков, Берзина от латышей, меня от краевой польской с.-д., Борхарда от немецких левых, Нерман и Хеглунда от шведов и Фрица Платена от левых швейцарских с.-д. По поручению нашей группы я выступал докладчиком; отвечал Ледебур, которого позже громили Ленин и Зиновьев. Борьба шла по двум вопросам — об обязательности голосования против военных кредитов и о необходимости стремления выйти из пропагандистских кружков на улицу, о необходимости развертывания массовой классовой борьбы против последствий войны, с целью сделать эту борьбу по мере ее нарастания борьбою против войны. Для защиты нашей точки зрения мы послали в комиссию Ленина. Несмотря на неудовлетворительность резолюции, принятой комиссией, мы решили единогласно подписать воззвание, считая, что момент разрыва с центром придет только тогда, когда массовое рабочее движение примет более широкие размеры.
После конференции мы имели собственную конференцию циммервальдской левой, из которой решили издать воззвание конференции и доклад о ней с острой критикой ее половинчатости, создать постоянную организацию циммервальдской левой, секретарем которой я был назначен. Боевой фонд этой организации составлен был таким образом, что Владимир Ильич внес от ЦК большевиков 20 франков, Борхард от немецких левых — 20 франков, а я из кармана Ганецкого от имени польских социал демократов —10 франков, будущий Коммунистический Интернационал располагал, таким образом, для завоевания мира пятьюдесятью франками, но для издания брошюрки о конференции на немецком языке понадобилось 96 франков. Сорок шесть пришлось одолжить у Шкловского, который, эксплуатируя труд Зиновьева и Сафарова, был фабрикантом каких-то минеральных солей. Недостающие 46 франков мы выручили от продажи брошюрки. Циммервальдская левая действовала в дальнейшем дружно, борясь против центристских элементов во всех странах. Ее секретариат рассылал по поводу всех изменений в положении и по поводу тактики, проводимой центристами, циркулярные письма, которые составлялись мною и после критического пересмотра Лениным и Зиновьевым переписывались мною собственноручно на гектографе. Роскоши пишущей машинки мы не могли себе еще позволить. За это время «Лучи Света» начали появляться еженедельно, и мы имели в них в Германии широко распространенный легальный орган.
В шестнадцатом году бременские друзья, собрав рабочими взносами капитал в двести рублей, приступили к изданию журнальчика «Рабочая Политика», половину которого я писал из Швейцарии; из русских большевиков сотрудничали в нем Зиновьев, Коллонтай, Бухарин, Евгения Бош. Очень курьезные приемы применялись для нелегальной связи с журналом. Вся переписка шла обыкновенной почтой, но для избежания пограничной цензуры на конвертах я ставил надпись — «подлежит газетной цензуре на месте. Срочный манускрипт. Не задерживайте». Не было ни одного случая, чтобы статьи и письма не попадали или задерживались для цензуры в Мюнхене. В Бремене же они отдавались без просмотра редакции, которая со своей стороны в цензуру представляла только то, что было предназначено для печати. Всякую же печатную нелегальщину я посылал точно так же открыто по почте, но всегда наклеивая почтовые марки в недостаточном количестве. Тогда швейцарская почта при отправке вносила посылку в штрафной список и, не вскрывая, срочным порядком вручала ее редакции с единственной целью выколотить от нее лишних двадцать копеек штрафа. Бременцы не сразу догадались, в чем тут дело, и ругали меня за небрежность, причиняющую им такой материальный ущерб. Еще лучше поставлено было дело с посылками журнала «Предвестник», который мы начали издавать в Швейцарии на деньги Роланд Гольст. Этот журнал, который ясно и открыто ставил все вопросы, мы поставляли со скидкой в пятьдесят процентов социал-патриотическому издательству Баумейстера, к которому направляли за заказами своих товарищей. Издательство Баумейстера, находившееся под покровительством правительства, получало посылки регулярно и за пятьдесят процентов прибыли распространяло большевистскую литературу.
На Кинтальской конференции, состоявшейся в 1916 г., мы уже представляли значительную силу. Продолжение войны везде привело уже к сдвигу налево. Большевики оказались на деле единственной революционной организацией России. Меньшевики раскололись на открытых социал-патриотов и на нерешительных интернационалистов, за которыми в России не было реальной силы. В Польше наша организация вела героическую борьбу против немецких оккупантов, в Германии, несмотря на арест Либкнехта и Розы Люксембург, движение спартаковцев разрасталось и самоопределялось. Во Франции Монатт и Росмер вытесняли более умеренного Мергейма. Нам удалось завязать сношения с Америкой. В Англии обострялась оппозиция рабочего класса. На Кинтальской конференции благодаря этим сдвигам мы сумели уже навязать циммервальдцам нашу антипацифистскую позицию, отклонить попытки переговоров со Вторым Интернационалом. В целом ряде основных вопросов с нами голосовали спартаковцы и представители итальянского ЦК. После конференции на заседании циммервальдского бюро мы перешли в прямое наступление против Роберта Гримма, который, будучи секретарем циммервальдского объединения вел оппортунистическую политику в Швейцарии. Через циммервальдскую левую проводилось влияние большевистской идеологии во всех странах.
После Кинтальской конференции я переехал в Давос, откуда поддерживал связь с Ильичом и с Германией. Ильич имел непосредственную связь с Францией, Англией, Америкой и Скандинавскими странами. Мы часто встречались, когда Ильич переехал из Берна в Цюрих. В Цюрихе он заставил меня и Вронского завязать непосредственные сношения с швейцарскими рабочими, считая, что даже самые левые из швейцарских партийных вождей представляют собой колеблющиеся элементы. Он разрабатывал аграрную программу для швейцарских революционных социал-демократов и ходил с нами на малые собрания швейцарских рабочих.
Однажды за обедом в базельской санатории в Давосе, между мясом и компотом, швейцарский врач гнусавым голосом сообщил мне, что в городе расклеены телеграммы агентства о революции в Петербурге. Это было сказано с таким невозмутимый спокойствием, что ни я, ни Павел Леви, который был у меня в гостях, не поверили. Но все-таки нас охватило беспокойство, и, не дождавшись уже кофе, мы побежали в город, где и прочли первые телеграммы агентства. Когда мы вернулись домой, меня вызвал к телефону Бронский и от имени Владимира Ильича попросил немедленно приехать. Поезд шел только на следующий день. Встретил нас Владимир Ильич, с готовым решением сразу двух вещей: надо рвать с Циммервальдом и ехать в Россию. Что касается первого, то, несмотря на его аргументы, что оставаться в Циммервальде — это означает вызвать впечатление блока с меньшевиками, мы с Зиновьевым добились следующих уступок от Ильича: не подписывать никаких совместных воззваний с Мартовым, но не уходить из Циммервальда. Что же касается второго вопроса, то по поручению Ильича я, совместно с Леви, переговорил с корреспондентом «Франкфуртер цейтунг» — фамилия его, кажется, Датман или Дитман, — который должен был нащупать почву у немецкого посланника, не согласится ли Германия пропустить русских эмигрантов взамен за соответствующее количество военнопленных. Скоро мы получили ответ, что германский посол готов обсудить этот вопрос. Тогда совместно с Мартовым мы дали полномочия для переговоров Роберту Гримму. Но его рассказ о переговорах убедил нас, что этот честолюбивый политикан может запутаться в какие-то общие политические разговоры. Поэтому мы отказались от его услуг и поручили с нашей стороны дальнейшее ведение переговоров Платтену, который довел их добросовестно до конца. Все рассказы об участии в этих переговорах Парвуса не соответствуют действительности. Попытки Парвуса вклиниться в переговоры были Лениным отклонены, что не исключает возможности, что германское правительство запрашивало Парвуса о его мнении по этому вопросу. Также точно не отвечают действительности легенды о пломбированном вагоне. Никаких пломб на вагоне не было; мы только обязались не выходить из вагона. Сношения с немцами вел Платтен. Я, будучи австрийским подданным и, кроме того, нелегальным в Германии (моя жена только что была арестована в Германии), переезжал без ведома германских властей, если не ошибаюсь с паспортом Войкова, до Стокгольма. Там остался вместе с Ганецким и Воровским в качестве агента ЦК для связи с заграницей. В Стокгольме начался период работы, охватывающий только несколько месяцев, но полный интереснейших эпизодов.
В Стокгольме создалась с самого начала русской революции международная обстановка. Русская революция учитывалась немецкими социал-демократами, как возможность переговоров о мире. И немедленно там сконцентрировались их попытки и завязались сношения с правительством Керенского, меньшевиками и эсерами. В качестве помошников германской социал-демократии действовали датские социал-демократы с Борбергом во главе. Исполком Советов первого созыва со своей стороны послал сюда свое представительство в лице Розанова и Мешковского. Социал-демократы стран Антанты в свою очередь имели агентом вождя шведской социал-демократии Брантинга. Зашевелилось Международное Бюро Второго Интернационала с Гюисмансом во главе, который переехал в Стокгольм и организовал там свое бюро. Началась подготовка к созыву Стокгольмской конференции Второго Интернационала; приезжали делегации из всех стран. Приехали австрийцы, с тяжелобольным Виктором Адлером и Реннером во главе, приехали венгры с Кунфи, приехали бельгийцы. Мы пытались завязать связь с левыми элементами во всех этих делегациях для того, чтобы получить информацию о положении, завязать сношения с элементами, способными к развитию налево. Наиболее комичное дело вышло с австрийцами. Вместе с их делегацией приехала старая деятельница австрийской социал-демократии, сестра Густава Экштейна. С ней — другая деятельница партии, симпатизировавшая нам. Почтенный Реннер, совершенно этого не зная, вез в своем чемодане письма от наших австрийских товарищей, которые передали ему на хранение сочувствующие нам в австрийской социал-демократии. В одном из этих писем товарищи передавали нам, что Реннер перед самым выездом на конференцию был принят австрийским императором на тайной аудиенции, сведение, которое мы поспешили напечатать к немалому удивлению Реннера. Из приезжающих социал-демократов наиболее потрясающее впечатление произвел на меня вождь бельгийских социал-демократов Дебрукер, которого я перед войной знал, как одного из лучших левых марксистов и который теперь не был в состоянии говорить и думать ни о чем другом, как о войне до конца. Кунфи передал нам сведения о революционном положении в Венгрии. Он был единственным из социал-демократов, который был твердо убежден в предстоящей в Центральной Европе революции. Самое жалкое впечатление производили независимые германские социал-демократы, которые на словах очень были революционны, но которые боялись передать более конкретные сведения о положении в Германии.
Мы, понятно, наладили связь и с Союзом Спартака, от которого приезжал к нам Фукс, и с нашими единомышленниками, с которыми переписывались нелегально. Иоганн Книф, перешедший на нелегальное положение и скитавшийся тогда по Германии, сумел доставлять нам сведения о революционном движении, которые мы передавали по телеграфу в «Правду», к большой радости Владимира Ильича. Для информации западноевропейской социал-демократической печати мы начали издавать сначала гектографированный бюллетень, появлявшийся два раза в неделю под названием «Корреспонденция Правды». Этот бюллетень широко использовали в рабочей печати. Он издавался одновременно по-французски в Женеве. Скоро он уступил место еженедельнику, носившему название «Вестник Русской Революции». Издание бюллетеня и «Вестника» было сопряжено с очень большими затруднениями. Не только наши средства были очень скромные, что принуждало нас издания эти поставить кустарным образом (весь технический персонал состоял из жены Ганецкого и моей), но мы были отрезаны от сведений, ибо петроградская цензура не пропускала за границу большевистской печати. Однако, Ганецкий скоро разузнал, что этот запрет не относится к печати, издаваемой в Финляндии, и мы могли получать не только орган нашей финской партии «Тиомес», имевший много сведений из большевистской печати, но получали и «Волну», наш большевистский гельсингфорский орган «Волна» состояла в значительной мере из перепечаток из «Правды, и мы, таким образом, были снабжены всеми основными сведениями.
Представительство тогдашнего ВЦИК издавало со своей стороны бюллетень, но, несмотря на свой официальный характер, оно получало известия через курьеров с таким опозданием, что не могло с нами конкурировать. Старик Аксельрод, который после июльских дней приехал в Стокгольм, хвалил нас за умелость и был убежден, что мы имеем тайную радиосвязь с Балтийским флотом. Это убеждение было общее и привело к очень комичным происшествиям. В гельсингфорской «Волне» был напечатан приказ Керенского, данный адмиралу Вердеревскому, в случае попытки гельсингфорского флота продвигаться в Кронштадт потопить гельсингфсрские корабли при помощи подводных лодок. Мы, получив номер «Волны» с этим известием, решили его пустить в печать под заглавием «Государственная измена Керенского». Узнав об этом, представитель ВЦИК сказал мне, что сие представляет собою государственную измену, ибо нельзя печатать тайных военных документов и что за напечатание не только будем уголовно отвечать мы, но и Центральный Комитет большевиков. Он добавил, что не подлежит сомнению, что мы эти сведения получили тайным путем из Гельсингфорса. Мы не хотели его в этом разуверять и сказали только патетически, что принимаем полную ответственность за наши шаги и что сведения напечатаем. А потом ужасно смеялись, когда под разными предлогами начали на квартиру Ганецкого являться шведские шпики, пытавшиеся вынюхать, а где у нас помещается радиоприемник.
В сентябре месяце должна была состояться Циммервальдская конференция. Мы подготовлялись к ней самым тщательным образом, чтобы дать бой меньшевикам и принудить циммервальдские партии занять определенные позиции по отношению к борьбе пролетарских и мелкобуржуазных течений в русской революции. Со стороны меньшевиков выступал Ерманский и Аксельрод. В нашей делегации — Боровский, Ганецкий, Семашко и я. Борьба приняла очень острые формы, главным образом потому, что старик Аксельрод защищал открыто подлые меры, принятые правительством Керенского против нашей партии. Припертый нами к стене Гаазе, вождь германских независимцев, пытался перевести спор на вопрос, отрицаем ли мы насилие по отношению к другим социалистическим партиям. Мы ответили с полной ясностью, что насилие по отношению к якобы социалистическим партиям, предающим революцию, признаем и будем практиковать, если очутимся у власти. Циммервальдцам же ставим вопрос, признают ли они связь с мелкобуржуазными партиями, применяющими насилие против борцов пролетарской революции. В борьбе мы были поддержаны не только спартаковцами, но даже старик Ледебур не выдержал адвокатства Гаазе и открыто выступил в нашу защиту. Конференция кончилась принятием резолюции, призывающей к массовым революционным действиям для защиты русской революции. Надо заметить, что Владимир Ильич в своих письмах из Питера настаивал на подготовке разрыва с циммервальдцами, считая, что пришло время подготовлять организацию Третьего Интернационала. Мы не могли решиться на этот шаг, считали его преждевременным.
Обострение борьбы в Петрограде увеличивалось с каждым днем, и мы проводили бессонные ночи в ожидании решающих сведений. Они пришли поздней ночью, и венгерский журналист Гутман передал нам под утро из телеграфного агентства речь Владимира Ильича при открытии второго съезда советов. Мы с Ганецким немедленно собрались в путь, но были задержаны телеграммой, что для свидания с нами едет представитель ЦК германской социал-демократии. Этим представителем оказался никто иной, как Парвус, который от имени германской социал-демократии привез заверения, что она немедленно вступает в бой за мир с нами. Частным образом он заявил нам, что Шейдеман и Эберт готовы объявить всеобщую забастовку в случае, если бы германское правительство под давлением военных кругов не пошло на почетный мир. Об этих переговорах мы напечатали открыто в шведской партийной газете и отправились с Ганецким в Питер, имея в кармане только удостоверения от Воровского, что являемся членами заграничного представительства большевиков. Не зная, в чьих руках граница, мы послали финского товарища, который передал собранные нами сведения об отзвуке вызванном Октябрьской революцией. Он вернулся скоро со сведениями, что граница в руках наших товарищей, и мы отправились ночью через границу. Нашли мы там молодого матроса Светличного с корабля «Республика», горячего, преданного, который связал нас немедленно с Гельсингфорсом, так как в Финляндии происходила тогда железнодорожная забастовка и без разрешения забастовочного комитета нельзя было отправляться дальше. Получив разрешение на экстренный поезд, мы послали в Гапаранду за русскими рабочими, приехавшими из Америки и ожидавшими возможности дальнейшего следования в Россию. По дороге мы получили петроградскую буржуазную прессу, раздувавшую разногласия в большевистском ЦК. С очень тяжелым чувством подъезжали мы к Петрограду, но когда через окно вагона увидели отряды красной гвардии, обучавшиеся владеть винтовкой, нас охватила дикая радость. Как во сне приехали в Смольный и через минуту были в кабинете Ленина.
Десять лет работы в рядах русской революций чересчур свежи, чтобы о них дать связную картину. Я ограничусь поэтому только перечислением основных фактов своей работы за эти годы. Немедленно после приезда в Петроград был послан обратно в Стокгольм для предварительных переговоров с представителем немецкого правительства Рицлером. После возвращения поехал с Троцким в Брест-Литовск. По возвращении в Петроград после разрыва переговоров был назначен членом Комитета обороны Петрограда. После заключения Брестского мира руководил отделом Центральной Европы в Наркоминделе и отделом внешних сношений ЦИК'а. После начала германской революции был послан совместно с Раковским, Иоффе, Бухариным и Игнатовым в делегацию ВЦИК'а на первый съезд немецких советов. Когда легально не удалось проехать, отправился нелегально. Принимал участие в организации первого съезда компартии в Германии. После убийства Розы Люксембург и Либкнехта остаюсь нелегально в Берлине и принимаю участие в руководстве партией. Арестованный 15-го февраля, сижу до декабря в тюрьме, откуда мне удается издать семь брошюрок, посвященных злободневным вопросам германского рабочего движения, и принимать деятельное участие в руководстве германской компартией, поддерживать близкую связь с австрийской и завязывать сношения с английским движением. Одновременно из тюрьмы удается мне наладить сношения с Талат-пашей и Энвер-пашей и с представителями восточной ориентации германского политического мира, с бывшим министром иностранных дел Гинце и т. д. Освобожденный из тюрьмы, возвращаюсь в Россию через Польшу, на основании соглашения, заключенного Пилсудским с советским правительством.
В марте 1920 года назначаюсь секретарем Коминтерна. Принимаю деятельное участие в организации второго конгресса Коминтерна, на котором выступаю докладчиком. После конгресса отправляюсь в качестве члена польского Ревкома на польский фронт. Поражение застает меня в Седлеце. Совместно с Зиновьевым принимаю участие в организации первого съезда народов Востока, на котором выступаю докладчиком. В октябре 1920 года отправляюсь нелегально в Германию для участия в организации съезда, на котором должно было произойти объединение левых независимцев со спартаковцами. В январе 1921 г. даю инициативу к тактике единого фронта так называемым открытым письмом. Вернувшись, принимаю участие в третьем конгрессе Коминтерна в качестве докладчика по тактике. На четвертом конгрессе являюсь докладчиком о тактике единого фронта и рабочем правительстве. В 1922 г. руковожу делегацией Коминтерна на съезде трех Интернационалов. К концу 1922 г. послан председателем русской профсоюзной делегации на Гаагский съезд, посвященный борьбе с военной опасностью. В начале 1923 г. отправляюсь в Христианию для предотвращения раскола норвежской коммунистической партии. После возвращения в Германию отправляюсь в Гамбург, как наблюдатель во время конгресса Второго Интернационала. Принимаю участие в организации кампании по поводу захвата Рура и в Лейпцигском съезде германской компартии. По возвращении в Россию командируюсь Коминтерном в октябре для участия в руководстве предполагаемым восстанием. Приезжаю 22 октября уже после начала отступления. Одобряю это решение ЦК.
Возвратившись в Россию, принимаю участие в дискуссии 1924 года на стороне партийной оппозиции. На XIII съезде партии выступаю против намечающегося изменения коминтерновской тактики. Не вхожу больше в Центральный Комитет, членом которого состоял с 1919 г. На 5 конгрессе Коминтерна выступаю против намеченного тактического курса и не вхожу больше в Исполком Коминтерна. За все годы революции состою сотрудником «Правды» и «Известий». Пишу в первую очередь по вопросам внешней политики и международного рабочего движения. Избранное собрание моих статей и извлечений из брошюр составляют сборники: «Пять лет Коминтерна», 2 тома (изд. «Красн. Нови»), «Германская революция» (изд. Госиздата), 3 тома; статьи по вопросам текущей международной политики образуют том «1924 год» (изд. Госиздата). На немецком языке часть предвоенных работ издана в 1920 г. под заглавием: «In den Reihem d. russischen Revolution». С 1925 г. являюсь ректором Китайского унив. им. Сун Ятсена и принимаю участие в редакции Большой Советской Энциклопедии.
Карл Радек
1927 г.