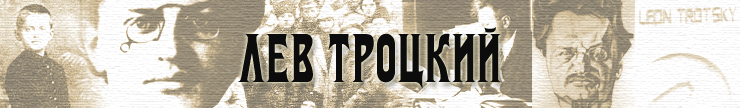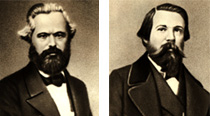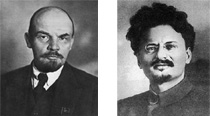Тезисы к XV съезду.
XIV съезд прошел в декабре 1925 г. и очередной партийный съезд уже был просрочен на целый год. Наконец был назначен очередной съезд и Сталин всячески торопил свою право-центристскую фракцию разгромить оппозицию до открытия съезда. ЦК и ЦКК в конце октября исключил Троцкого и Зиновьева из Центрального Комитета. В ноябре последовало их исключение из ВКП, но упразднить немедленно все традиции партийной демократии было невозможно. По инерции, Троцкий смог 17 ноября выступить в «Дискуссионном листке» «Правды» со своими тезисами. — /И-R/
Платформа большевиков-ленинцев (оппозиции) о пятилетнем плане народного хозяйства.
«Правда» № 283, 17 ноября 1927 г.
Необходимое предварительное замечание.
В нормальных условиях партийного развития тезисы и всякие вообще документы партийного меньшинства печатаются до официального открытия предсъездовской дискуссии. В свою очередь дискуссия должна предшествовать всяким партийным выборам, которые определяют или предопределяют состав съезда. Незачем говорить, что дискуссия должна протекать в таких условиях, которые обеспечивали бы партийной массе возможность всестороннего обсуждения спорных вопросов. Ни одно из этих условий не соблюдено ни в малейшей мере:
а) Перевыборы бюро ячеек, выборы на районные и уездные конференции, выборы на окружные и губернские конференции проведены и проводятся до дискуссии и без дискуссии.
б) Будущий партийный съезд, таким образом, заранее огражден от влияния борьбы мнений внутри партии. Дискуссия обречена развертываться на холостом ходу. Никакого влияния на съезд она оказать не может. Это значит, что массе членов партии присваивается не законодательная, а законосовещательная роль.
в) Однако, даже и эта дискуссия поставлена в такие условия, которые, доводя внешние формы дискуссии до исключительной остроты (брань, свист, срыв собраний и пр.), сводят в то же время к минимуму положительное, то есть воспитательное, значение дискуссии. Это относится полностью и к вопросу о тезисах.
Тезисы ЦК были опубликованы 25 октября всего года. Нам, большевикам-ленинцам (оппозиции), запрещено было противопоставить тезисам ЦК нашу платформу, а на последнем объединённом пленуме ЦК и ЦКК отвергнуто было наше предложение опубликовать в качестве контр-тезисов хотя бы только соответственные главы нашей платформы, посвященные тем же вопросам, что и тезисы ЦК. В результате, контр-тезисы оппозиции появляются за три недели до съезда, то есть после того, как по всей стране пройдут все низовые партийные конференции. В отдалённых частях Союза контр-тезисы оппозиции появятся уже после отъезда делегатов на съезд. Чисто-аппаратный порядок подготовки XV-го съезда находит в этом факте свое наиболее яркое и очевидное выражение.
Но основные вопросы социалистического строительства сохраняют всю свою силу независимо от методов подготовки съезда. Никогда ещё не было в истории случая, чтобы голая организационная механика побеждала правильную политическую линию. Это последняя всегда продолжит себе дорогу через все препятствия. Лишенные — в противоречии с уставом и традициями нашей партии — возможности, в качестве меньшинства, повлиять на подготовку XV-го съезда, на его состав и на его будущие решения, мы обращаемся с нашими тезисами к общественному мнению партии, прежде всего — её пролетарского ядра.
I. Основной порок тезисов ЦК.
Каждый рабочий-коммунист ждал от тезисов ЦК по вопросу о пятилетним плане хозяйства совсем не того, что содержится в тезисах товарищей Рыкова и Кржижановского.
Все коммунисты с тревогой задают себе вопрос: что же будет дальше с безработицей; неужели никакого просвета впереди; что говорят об этом цифре имеющихся пятилеток и что говорят тезисы ЦК об этих пятилетках? На этот вопрос тезисы ЦК не дают никакого ответа.
Каждый коммунист задаёт себе другой, не менее важный и всех волнующий вопрос: как будет обстоять дело в ближайшие годы с товарным голодом? Ещё в начале этого года тт. Микоян, Рыков, Бухарин и другие, споря с оппозицией, категорически утверждали, что товарный голод быстро смягчается. Что же ожидает в этой области рабочих и крестьян в ближайшие годы? Будет ли товарный голод «изживаться» только в речах тт. Микояна, Бухарина и других, или же предложение товаров начнёт действительно покрывать спрос? Что об этом говорят три имеющиеся пятилетки Госплана и ВСНХ, и что говорят тезисы ЦК об этих пятилетках; как будет изменяться за эти пять лет товарный голод? На этот вопрос в тезисах-директивах ЦК также не дано никакого ответа.
Совершенно так же обстоит дело и по ряду других животрепещущих вопросов, как-то: о несомненно начавшимся росте хлебных цен, о затруднениях с хлебозаготовками, о сокращении экспорта, об угрозе покупательной силе рубля и т.д.
Тезисы ЦК говорят о необходимости «повышения обеспечения жилищной площадью рабочего населения», не указывая, в каких размерах. Октябрьская прибавка в 50 млн. руб. на жилищное строительство совершенно ничтожна в сравнении с жилищной нуждой и не намного превышает тот рост ассигнований, который и без манифеста был бы намечен в соответствии с общим ростом хозяйства.
В тезисах говорится о необходимости борьбы против пьянства вообще, но не содержится и намёка на конкретное предложение: сократить доходные поступления от водки и в настоящем бюджетном году и в следующих и соответственно сократить производственную программу винокуренной промышленности. Между тем, деловые хозяйственные планы, годовые и пятилетние, построены целиком на росте душевого потребления водки.
Итак, первый основной порок тезисов ЦК к XV партсъезду заключается в том, что ЦК не берет на себя перед партией и рабочим классом ответственности ни за один из имеющихся проектов пятилетнего плана, ни единым словом не высказывается об основных идеях, на которых эти пятилетки построены; со своей стороны не дает никаких указаний, в какую сторону они должны быть изменены. Между тем, все опубликованные до сих пор ведомственные пятилетние планы, выработанные под руководством членов ЦК — Рыкова, Кржижановского, Куйбышева, Микояна и других, — находятся в вопиющем противоречии с благопожеланиями предсъездовских тезисов ЦК. Ничего не будет поэтому удивительного, если готовящиеся в ведомствах новые пятилетки окажутся внезапно «сверх-индустриалистскими» и будут так же мало связаны с сегодняшним днём, так же мало обоснованы и так же мало реальны, как и некоторые другие юбилейные «сюрпризы».
Тезисы в целом представляют собою набор неопределённых пожеланий по различным вопросам хозяйственного плана и хозяйственной политики, причём партии и рабочему классу совершенно не дается указаний на то, могут ли и каким именно образом могут быть осуществлены эти пожелания на деле. Расплывчатость и неопределённость тезисов-директив тем более непозволительны, что ЦК, руководящий всем государственным аппаратом страны, имеет полную возможность и по своей роли обязан давать директивы ясные и конкретные, доступные широчайшим слоям партии и рабочего класса и не допускающие никаких лжетолкований со стороны хозяйственных органов. Но эта расплывчивость и неопределённость отнюдь не случайны. Они призваны прикрыть практику постоянных колебаний и зигзагов, утерю способности намечать и отстаивать пролетарскую политику против мелкобуржуазного давления и — как неизбежное последствие — практику сползания, то есть все возрастающих уступок давлению непролетарских классов.
II. Хозяйственные планы и классовая борьба в СССР.
Второй порок тезисов заключается в том, что авторы их забывают главное и основное, именно, что на теперешней стадии развития НЭПа каждый вопрос крупного хозяйственного значения, тем более пятилетний план всего хозяйства, является вопросом классовой борьбы. Нетрудно бросить лозунг «обогащайтесь» по отношению к тем, кто и без того с успехом обогащался. Такой лозунг всегда будет подхвачен и на все 100% выполнен представителями новой буржуазии города и деревни. Совсем другое дело, когда, наконец-то, — с опозданием на два с лишним года — ЦК провозглашает и в манифесте, и в тезисах лозунг нажима на кулака и нэпмана. Этот лозунг, если его брать всерьёз, предполагает изменение всей политики, новую группировку сил, новую ориентировку всех государственных органов. Об этом необходимо сказать точно и ясно. Ведь ни кулак, с одной стороны, ни бедняк, с другой, не забыли, что в течение двух лет ЦК отстаивал совсем другую политику. Совершенно очевидно, что, замалчивая эту свою прежнюю установку, авторы тезисов исходят из мысли, будто для изменения политики достаточно дать новый приказ. Между тем, осуществить не на словах, а на деле новый лозунг нельзя без преодоления ожесточённого сопротивления одних классов и без мобилизации сил других классов.
За последние годы кулак все крепче нажимал на бедноту в деревне и на государственную власть в городе, вынуждая её менять свои хозяйственные планы и расчёты.
Сращивание кулака, частника, буржуазного интеллигента с многочисленными звеньями не только государственной, но и партийной бюрократии есть самый несомненный и вместе с тем самый тревожный процесс нашей общественной жизни. Отсюда возникают зародыши двоевластия, угрожающие диктатуре пролетариата.
Для того, чтобы отбросить эту опасность, чтобы серьёзно нажать на кулака, нэпмана и бюрократа, чтобы, в частности, серьёзно обложить кулака добавочными налогами — надо кулака, во-первых, выявить, затем выявить скрываемые им и постоянно растущие доходы его.
Защитить надлежащими мерами батрака и бедноту от кулацкой эксплуатации невозможно без активности самих батрака и бедняка. Но, чтобы батраки и бедняки могли подать свой голос и помочь в деле нажима на кулака, надо, чтобы они перестали его бояться. Надо, чтобы им не пришлось сказать в конце концов: я показал на кулака, а советская власть меня бросила; я остался снова с ним с глазу на глаз, и теперь мне не будет пощады, а податься мне некуда, всюду безработица. Чтобы так всё не обернулось, надо организовать классовую борьбу деревенской бедноты с кулаком всерьёз. Тот, кто не решается на такую борьбу, не продумал её последствий, не выработал её плана, — тот зря бросается лозунгом «нажим на кулака». Получится демагогическая фраза, не больше.
Точно так же обстоит дело с нажимом на нэпмана в городе. В последние годы в городе нэпмановский рубль явно нажимал на рабочую копейку. Он нажимал и в квартирном вопросе, и в государственном аппарате, и на рынке, и в школе, и в театре, и пр. и пр. Чтобы повернуть дело в другую сторону, недостаточно дать новую инструкцию налоговым работникам Наркомфина. Только тупой бюрократ может думать, что всё дело сводится к этому. Нажим на нэпмана немыслим без пробуждения рабочей активности в городе, без возрождения рабочей демократии в советах, без настоящей (а не показной) ответственности всех советских органов перед рабочими избирателями. То же относится к профсоюзам и прежде всего — к партии. Обо всех этих капитальнейших вопросах классовой борьбы, без решения которых немыслимо провести сколько-нибудь удовлетворительный пятилетний план хозяйства, в тезисах ЦК нет ни единого слова.
Вопрос: кто кого? — разрешается непрерывной борьбой классов на всех участках экономического, политического, культурного фронтов за социалистический или капиталистический путь развития, за соответственное этим двум путям распределение народного дохода, за полноту политической власти пролетариата или делёж этой власти с новой буржуазией. В стране с подавляющим большинством мелкого и мельчайшего крестьянства и вообще мелких хозяйчиков важнейшие процессы до поры до времени совершаются распылённо и подспудно, чтобы затем сразу, неожиданно прорваться наружу.
Капиталистическая стихия находит свое выражение, прежде всего, в расслоении деревни и в росте частника. Верхи деревни, как и буржуазные элементы города, все теснее переплетаются с разными звеньями государственно-хозяйственного аппарата. Этот аппарат нередко помогает новый буржуазии окутывать статистическим туманом её успешную борьбу за увеличение её доли в народном доходе.
Торговый аппарат, государственный, кооперативный и частный, съедает громадную долю народного дохода: значительно более одной десятой валовой продукции. С другой стороны, частный капитал в торгово-посредническим обороте занимает за последние годы значительно более одной пятой всего оборота, в абсолютных цифрах — свыше пяти миллиардов в год. До сих пор массовый потребитель получает необходимые ему продукты более чем на 50% из рук частника. Здесь для частника основной источник прибыли и накопления. Ножницы сельскохозяйственных и промышленных цен, оптового-розничные ножницы, так называемые «разрывы» цен по отдельным отраслям сельского хозяйства, по отдельным районам, по сезонам, ножницы внутренних и мировых цен (контрабанда), — представляют собою постоянный источник наживы.
Частный капитал собирает ростовщические проценты по ссудам и наживается на государственных займах.
Роль частника очень значительно и в промышленности. Если даже она и падала за последнее время относительно, то росла абсолютно. Частокапиталистическая цензовая промышленность дает валовой продукции на 400 миллионов в год. Мелкая кустарная и ремесленная дает более 1.800 миллионов. Вместе продукция негосударственной промышленности составляет более 1⁄5 всей промышленно-товарной продукции и около 40% товарной массы широкого рынка. Преобладающая масса этой промышленности так или иначе связана с частным капиталом. Разнообразные явные и скрытые формы эксплуатации массы кустарей торговым и кустарно-предпринимательским капиталом являются чрезвычайно важным и притом растущим источником накопления новой буржуазии. Влияние госаппарата растёт, а с ним вместе и бюрократическое извращение рабочего государства. Абсолютный и относительный рост капитализма в деревне и абсолютный рост его в городе начинают приводить к росту и политического самосознания буржуазных элементов в нашей стране. Эти элементы пытаются деморализовать — часто не без успеха — и часть коммунистов, с которыми сталкиваются на работе и в быту. Данный Сталиным на XIV съезде лозунг: огонь налево! — не мог не облегчить сплочения правых элементов в партии и буржуазно-устряловских элементов в стране.
В тезисах ЦК к съезду продолжается травля оппозиции, то есть той части коммунистов, которая упорно боролась последние годы за нажим на кулака, нэпмана и бюрократа, следовательно, за такое перераспределение народного дохода, без которого (перераспределения) немыслимо добиться более быстрой индустриализации, сокращения безработицы, ликвидации товарного голода. Не найдётся ни одного политически разумного человека, который бы поверил, что самым лучшим способом нажима на кулака, нэпмана и бюрократа является нажим на то крыло партии, которое все время боролось за эту программу действий против нынешнего большинства ЦК. Наоборот, на расправу с оппозицией нынешние партийной руководство толкает растущий кулак и нэпман. Через бюрократию, засевшую в государственном и хозяйственном аппарате, они оказывают давление на партию. «Третья сила» — буржуазно-капиталистические элементы — с нетерпением ждёт разгрома ленинской оппозиции, чтобы облегчить себе проведение своей экономической программы — развязывание кулака и нэпмана, смычку с иностранным капиталом путём отмены монополии внешней торговли и пр.
Чтобы организовать правильное распределение народного дохода в интересах более быстрого развития производительных сил, укрепления пролетарской диктатуры и ускорения социалистического строительства, необходимо круто изменить общий курс политики.
III. Казённый оптимизм — помощь врагу.
Общая оценка соотношения классовых сил сделана в тезисах неверно, с обычным в последние годы прикрашиванием действительного положения дел. В тезисах говорится:
«С точки зрения классовой борьбы и расстановки классовых сил период, в которой мы вступаем, характеризуется возрастанием классовой мощи пролетариата, укреплением его союза с бедняцкой и середняцкой массой при относительном падении и возможном ещё абсолютном росте частнокапиталистических элементов города и деревни».
Эта «юбилейная» оценка положения неверна. Она построена на преуменьшении опасностей и поэтому вредна, так как может усыпить бдительность пролетариата.
Прочитав приведённые строки из тезисов ЦК, рабочий-партиец с изумлением должен себя спросить: если силы кулака, нэпмана и бюрократа относительно падают, а силы пролетариата растут, то зачем же потребовалось менять курс, то есть дать новый лозунг — нажимать на буржуазные слои, да ещё форсированно нажимать? Не обстоит ли дело как раз наоборот, то есть не приходится ли нажать на кулака (пока что на словах) именно потому, что увеличились его сила и его нажим на пролетариат?
Дело обстоит совсем не так, как рисуют директивы ЦК.
Во-первых, тезисы ЦК совершенно неправильно берут за одну скобку капитализм в городе и капитализм в деревне, утверждая, что и аграрный капитализм развивается только абсолютно. На самом деле, капитализм в деревне растёт и абсолютно и относительно, растёт с большой быстротой, и с каждым днём увеличивается зависимость советского государства и его промышленности от сырьевых и экспортных ресурсов зажиточно-кулацкой части деревни.
Во-вторых, не надо ни на минуту забывать, что рост давления буржуазных элементов на пролетариат отнюдь не изменяется в точном арифметическом соотношении с экономической статистикой. Развитие аграрного капитализма, подпирающего живучий городской капитализм, оказалось достаточным, чтобы пробудить сознание своей силы у всех буржуазных элементов страны, чувствующих к тому же за своей спиной огромные резервы мирового капитализма.
В-третьих, надо учитывать силы мирового капиталистического окружения. Растущий натиск на СССР мирового капитализма делает смелее нашу внутреннюю буржуазию, а ряд наших поражений во внешней политике (Китай и т.д.), вызванных в огромной степени оппортунистической политикой ЦК, ещё более ухудшил соотношение сил между нашим рабочим классом и совокупными силами его внутренних и внешних врагов. Внутренняя буржуазия напирает, разумеется, не так смело, не так открыто, не так нагло, как напирает мировая буржуазия на диктатуру пролетариата и на его пролетарский авангард. Но эти два напора связаны друг с другом и совершаются одновременно.
Таким образом, давление непролетарских сил на рабочий класс, усугубленное неверной политикой ЦК, не уменьшилось, а возросло. Но признать это, значило бы для теперешнего большинства ЦК признать, что во всех его спорах с оппозицией по вопросам внутреннего развития СССР полностью и целиком была права оппозиция. Отбиваясь от ударов оппозиционной критики, подкрепляемой на каждом шагу фактами жизни, большинство ЦК списывает из платформы оппозиции лозунг нажима на кулака и нэпмана (сличи платформу оппозиции и «манифест»). Но желая скрыть свое идейно-политическое банкротство, большинство ЦК запутывается окончательно. Каждый рабочий понимает, что единственно разумным объяснением такого резкого (пока лишь словесного) поворота политики является признание факта усиления классово-враждебных пролетариату сил. Большинство же ЦК делает безнадёжную попытку объяснить необходимость форсированного нажима на кулака и нэпмана их «ослаблением» по сравнению с пролетариатом. Таким образом, ЦК даёт неверную в корне оценку соотношения классовых сил в стране, усыпляет активность и бдительность пролетариата, и тем самым подрывает доверие к новому «повороту», разоблачая его как политиканский зигзаг.
Однако, даже при нынешнем режиме пытающимся свести на нет существовавшую при Ленине рабочую демократию, напор классовых врагов на пролетариат и его партию начинает пробуждать активность наиболее передовых слоёв рабочего класса. Ленинградский пролетариат своим сочувственным отношением к оппозиции во время демонстрации 17 октября* показал, что он уже почувствовал, откуда грозит действительная опасность его классовому господству. Здесь и надо искать путей выхода из надвигающихся политических затруднений.
* 17 октября в Ленинграде имела место официальная демонстрация в честь проходящего в городе Съезда Советов. В качестве трибун возле Тавридского дворца поставили несколько грузовиков. Официальные вожди (Киров и другие) стояли на первом грузовике. Бывшие в опале Троцкий и Зиновьев стояли на отдельном грузовике в отдалении от официального. Массы трудящихся безучастно проходили мимо официальных вождей, но останавливались возле второго грузовика, с сочувствием, но робко и глухо приветствуя старых вождей, ныне в опале и оппозиции. — /И-R/
IV. Исходное положение.
Наконец, следующий порок тезисов ЦК состоит в том, что в них совершенно отсутствует освещение хозяйственного положения в данное время. Без оценки итогов руководства хозяйством за последние два года и учёта ошибок этого руководства невозможно экономически обоснованное хозяйственное планирование.
Резолюция июльского пленума 1927 года гласит:
«… общие хозяйственные итоги текущего года, насколько о них можно судить по предварительным данным, оказались благоприятными, и все развёртывание хозяйственной деятельности в текущем году было в общем и целом бескризисным, свидетельствуя о значительном улучшении планового руководства хозяйством страны».
Эти утверждения опрокинуты фактами жизни.
На протяжении последнего года вся официальная печать в один голос утверждала, что товарный голод в стране если не окончательно изжит, то по крайней мере значительно смягчён. Это теория изживания товарного голода нужна была для опровержения тезиса оппозиции об отставание промышленности от растущих потребностей населения и народного хозяйства.
На деле никакого ослабления товарного голода не было, а кажущееся успокоение рынка в первой половине 1926-27 хозяйственного года было достигнута мерами искусственного сокращения спроса. В результате товарный голод стал во весь свой рост уже во второй половине года.
Самое наглядное проявление этого голода — хвосты в городах и совершенно недостаточное снабжение деревни промтоварами. Возвещенное казёнными оптимистами торжество Наркомторга над рыночной стихией потерпело полный крах.
В 1925-26 году было заготовлено государственными и кооперативными заготовителями 584,4 млн. пудов. Кроме того, частные и мелкие кооперативные заготовки составили около 300 млн. пудов. Те же заготовители в 1926-27 году хлеба сняли с рынка меньше, чем в предыдущем году.
Несмотря на то, что 1927-28 год является третьим урожайным годом, уже с конца сентября положение на хлебном рынке начинает заметно ухудшаться. Заготовки падают, и к настоящему времени стоят примерно на 10% ниже, чем в прошлом году. Если же принять во внимание, что частные и мелкие заготовки резко сократились по сравнению с прошлым годом, то процент недозаготовки будет ещё больше. Падение общей массы изготовляемых хлебопродуктов является, с одной стороны, прямым свидетельством глубокого расстройства в отношениях между городом и деревней, а, с другой — источником новых угрожающих нам трудностей. Срыв планов экспорта, а, следовательно, и импорта, то есть тем самым и темпом индустриализации — есть наглядный результат этого положения вещей. (Вывоз хлеба в IV квартале 1926-27 г. составил лишь 23% вывоза за соответствующий квартал предыдущего года). К этому присоединяется неслыханный разрыв между заготовительными и потребительскими ценами.
«В 1927 году потребитель платил за пуд ржаной муки на 1,14 руб. дороже той цены, по которой заготовитель покупал пуд ржи у крестьянина. По пшенице разница достигает 2,57 руб. Эта разница в два с лишним раза превышает довоенную». («Правда», июль 1927 г.).
Понимают ли нынешние руководители хозяйства смысл этих явлений? Нет, не понимают. Говорят, что в 1927 году стали «много есть» (Рыков, в докладе на Прохоровке), что военная опасность расстраивает хозяйство (если так, что же будет во время войны? — к счастью, это не так), что плох аппарат (это верно, конечно). Эти объяснения не поднимаются над уровнем разговоров обывателя-хозяйчика. Три факта являются решающими для объяснения трудностей на хлебном рынке: нехватка товаров (отставание промышленности), накопление кулацких запасов (расслоение деревни), неосторожная политика в области денежного обращения (чрезмерный выпуск бумажных денег). Кто этого не понимает, тот неизбежно приведёт страну к хозяйственному кризису.
О состоянии денежного обращения официально опубликованные и потому широко известные цифры (ниже мы пользуемся только этого рода данными говорят следующее.
По контрольным цифрам Госплана намечалась выпустить червонцев за весь 1926-27 год на 150 миллионов руб. В действительности, за этот период выпущено на 328 миллионов руб., причём в четвёртом квартале вместо 75 млн. руб., намеченных по плану, в действительности выпущено 200 млн.
Обозначилось и резкое ухудшение в развитии нашего коммерческого кредита. Ресурсы кредитной системы (эмиссия и текущие счета) в 1925-26 году сократились почти втрое сравнительно с предшествующим годом, а в 1926-27 году произошло дальнейшее ухудшение. Контрольные цифры Госплана предусматривали, что рост вкладов в 1926-27 году составит 250 млн. руб.; в действительности же прирост очень далеко отстал от этой цифры, что привело к напряжению в области кредита, срыву кредитных планов и хаосу в кредитовании отдельных отраслей хозяйства.
Бюджеты последних лет оказались нереальными и по существу дефицитными. В 1925-26 году действительный недобор по бюджету составил около 200 млн. рублей. Предварительные итоги бюджета 1926-27 года указывают на значительный недобор доходов железнодорожного транспорта, что привело к позаимствованиям у банков около 100 млн. руб. на покрытие бюджетного дефицита по транспорту. Последнее обстоятельство явилось одной из причин чрезмерного выпуска червонцев в третьем квартале. Чрезмерно раздутый бюджет 1926-27 года привёл к повышению косвенных налогов, железнодорожных тарифов и некоторых других налогов, что по подсчетам ВСНХ дало удорожание себестоимости на 2,5 процента.
Директива партии о необходимости создания бюджетных резервов в размере 118 млн. рублей в 1925-26 году и 100 млн. руб. в 1926-27 году за счёт превышения доходов над расходами не выполнена ни в какой мере.
Оппозиция видела возможное нарастание трудностей, несмотря на хорошие урожаи.
«Практически говоря, хороший урожай — при отсутствии промтоваров — может означать перегонку зерна в увеличенном количестве на самогон и возросшие городские хвосты. Политически это будет означать борьбу крестьянина против монополии внешней торговли, то есть против социалистической промышленности». (Стенограмма заседания апрельского 1926 г. пленума ЦК, поправки тов. Троцкого к проекту резолюции т. Рыкова, стр. 164).
Жизнь целиком оправдала опасения оппозиции. Тов. Сталин пытался извратить смысл сделанных предупреждений и отделаться дешёвым зубоскальством.
«Тов. Троцкий, — говорил тов. Сталин, — видимо, исходит из того, что индустриализация должна осуществляться у нас через некоторый, так сказать «нехороший урожай». (Стенографический отчёт XV конференции ВКП(б), стр. 459).
Нынешние затруднения являются естественным результатом проявленного руководителями партии легкомыслия.
Все эти грубые ошибки и просчеты хозяйственного руководства привели к дезорганизации товарно-денежного рынка и угрожающе ослабили позицию червонца. Усилился крестьянский спрос на золото, и выбрасывание деревней червонцев приняло широкий характер. Не имея возможности превратить червонцы в товары, крестьянство сокращает свои продажи, что приводит к падению хлебных и сырьевых заготовок, росту цен, сокращению экспорта и дезорганизации всего хозяйства.
Можно ли пройти мимо этих фактов при оценке нашего хозяйственного положения, при составлении хозяйственной пятилетки? Скрывать эти факты перед партией только потому, что они бросают слишком яркий свет на политику ЦК за последние два года, было бы величайшей ошибкой, прямым преступлением перед партией.
V. Душевое потребление и товарный голод.
Социалистическое производство есть производство не для прибыли, а для удовлетворения потребностей. Это — основной исторический критерий наших успехов. Какую же картину развёртывает в этом отношении опубликованная пятилетка Госплана?
Личное потребление промышленных товаров, нищенское и в настоящее время, должно вырасти за пять лет всего лишь на 12%. Потребление хлопчатобумажных тканей в 1931 году, составляя 97% от довоенного, будет в пять раз меньше, чем в США в 1923 г.; потребление угля будет в семь раз меньше, чем в 1926 г. в Германии, в 17 раз меньше, чем в США в 1923 году; потребление чугуна будет в 4 с лишним раза меньше, чем в Германии в 1926 году, в 11 1⁄2 раз меньше, чем в США в 1923 году; производство электрической энергии будет втрое меньше, чем в Германии в 1926 году, в семь раз меньше, чем в США в 1923 г.; потребление бумаги составит к концу пятилетия 83% довоенного. Более «оптимистическая» опубликованная пятилетка ВСНХ не меняет существенно приведённых соотношений: так, например, душевое потребление хлопчатобумажных тканей в 1931-32 г. составит только 106,8% довоенного. Всё это через 15 лет после Октября! Преподносить к десятилетию Октябрьской революции такого рода крохоборческий, насквозь пессимистический план значит на деле работать против социализма.
Рука об руку с этими ничтожными нормами душевого потребления идёт возрастание товарного голода.
Пятилетка Госплана вычисляла товарный дефицит на 1930-31 год приблизительно в 400 млн. рублей. Это исчисление оказалось, однако, ошибочно преуменьшенным. Исходя из данных Госплана, ВСНХ определяет товарный дефицит для 1930-31 года в 11⁄2 миллиарда руб., а Наркомторг — в 1.200 млн.
Новейший вариант ВСНХ, специально приспособленный под «оптимистические» требования сверху, делает все, чтобы искусственно уменьшить товарный дефицит, но не может свести его ниже 800 миллионов руб. Диспропорция возрастает таким образом, заранее опрокидывая все надежды на снижение цен.
По замыслу Госплана, диспропорция должна быть устранена путём повышения рабочей квартирной платы в 2 1⁄2 раза против нынешней, примерно на 400 млн. руб. в год. Так как у зажиточного населения есть избыток покупательной силы, то чиновники Госплана, в том числе и коммунистические, пытаются исправить это положение путём урезки реальной заработной платы рабочих. Трудно поверить, что такой способ достижения рыночного равновесия предлагается ответственными органами рабочего государства!
Однако мы знаем уже, что действительный товарный дефицит составит не 400 миллионов, а гораздо большую сумму: от 800 миллионов до 11⁄2 миллиарда. Ясно, что планы приводящие к таким результатам, должны быть названы не планами социалистического строительства, а планами экономической и политической катастрофы.
Колоссальному дефициту промышленных товаров будут с неизбежностью соответствовать: возрастающими мёртвые хлебные запасы у деревенских верхов, возрастающая дифференциация крестьянства, возрастающие продовольственные и экспортные затруднения и, как результат всего, — возрастающий напор на монополию внешней торговли.
Есть ли выход из этих надвигающихся затруднений? Есть. Указывают ли тезисы ЦК этот выход? Ни в малейшей степени. Что говорят тезисы ЦК по самому важному и острому вопросу о диспропорции? — Ничего, кроме бессодержательных общих мест. А под прикрытием этих общих мест на деле происходит разбухание косвенных налогов и в частности — водочного налога, то есть самых вредных для народного хозяйства методов ослабления товарного голода.
Косвенные налоги дают основную массу доходных поступлений нашего бюджета (без транспорта и Наркомпочтеля). Их доля систематически увеличивается и в обще-налоговых доходах с 55% в 1924-25 г. до 64% в 1925-26 г. и 67% в 1926-27 г. (проценты подсчитаны на основании абсолютных цифр, приведённых в статье зам. Наркомфина М. Фрумкина в «Экономической жизни» от 1 октября 1927 г.; в сумму косвенных налогов включены и пошлины). Большую часть косвенных налогов платит город, прежде всего — рабочий класс. Это иллюстрируется следующими цифрами о распределении платежей по акцизам: земледельческое население уплатило в 1924-25 г. 1,46 руб., в 1925-26 г. — 2,64 руб. на душу; неземледельческое население в 1924-25 г. — 12,93 руб.; в 1925-26 г. — 18,98 руб. на душу. Процентное отношение платежей по акцизам к доходу возрастает в 1925-26 г. по сравнению с 1924-25 годом у рабочих на 0,8 (с 5,0 до 5,8), у служащих — на 1,3 (с 5,4 до 6,7) а у владельцев торгово-промышленных предприятий на 0,1 (с 6,6 до 6,7) (из материалов Наркомфина «Опыт исчисления тяжести обложения отдельных социальных групп населения в 1924-25 и 1925-26 гг.»). Таким образом, распределение национального дохода между классами в этом пункте направлено целиком против рабочего класса. Это значит, что бóльшая часть расходов на государственный аппарат ложится на рабочий класс, составляющий лишь около одной восьмой всего работоспособного населения страны. Пора поставить вопрос о постепенной систематической замене косвенных налогов прямыми. И по этому назревшему вопросу тезисы ЦК хранят упорное молчание.
Водка. Среди косвенных видов обложения все большую роль играет водочный налог. В тезисах ЦК провозглашена официально борьба «против пьянства». Как же эта новая директива на ближайшее пятилетие отразилась на пятилетнем плане винокуренный промышленности?
Согласно пятилетке Госплана, производство и потребление на душу населения должны возрасти: тканей — на 41%, галош — 88%, стекла — 96%, чугуна — 113%, мыла — 121%, водки — на 227%. Таким образом, производство предметов первой необходимости возрастает гораздо медленнее, чем производство водки, которое более чем утраивается. И это после того, как потребление водки за последние годы росло с 0,6 бутылки на душу населения в 1924-25 году до 2,9 бутылки в 1925-26 году и 4,3 бутылки в 1926-27 году (см. пятилетку Госплана, стр. 73). Винокуренная промышленность, согласно пятилетке, оказывается «ведущей» отраслью промышленности. Таким образом, провозглашенную в тезисах борьбу с пьянством пока что предполагается вести путём увеличения душевого потребления водки втрое против теперешнего.
VI. Капитальные затраты.
Намечаемая всеми пятилетками перспектива неслыханного обострения товарного голода, — если это перспектива не будет опрокинута решительной классовой политикой советской власти, — означало бы серьезнейшее потрясение советской хозяйственной системы. Перед лицом этой перспективы и ЦК должен был бы, казалось, искать выхода в твёрдой и энергичной политике систематического увеличения капитальных затрат на промышленность.
Между тем, по пятилетке Госплана капитальные затраты промышленности из года в год почти не возрастают (1.142 миллиона в 1927-28 г. — 1.205 миллионов в 1930-31 г.), А в процентном отношении к общей сумме вложений в народное хозяйство падают с 36,4% до 27,8% (стр. 83). Чистые вложения в промышленность из средств государственного бюджета, по программе пятилетки, падают за те же годы с 220 миллионов до 90! (стр. 147). Новые цифры Госплана предусматривают более значительный рост капитальных затрат (1.250 млн. в 1927-28 г. — 1.588 млн. в 1930-31 г.). Не говоря уже о том, что партии неизвестны реальные основания для этих повышенных исчислений, необходимо отметить, что и при этом варианте вложения извне в промышленность увеличиваются в совершенно недостаточной мере (со 147 млн. в 1927-28 г. до 201 млн. в 1930-31 г.).
Эти цифры на практике окажутся ещё меньше, как это было и до сих пор (сравни, например, «Расчётный баланс между промышленностью и бюджетом на 1925-26 и 1926-27 гг.», опубликованный в «Сводном Производственно-Финансовом Плане ВСНХ СССР», стр. 224—229 и 381).
Не лучше обстоит дело и с опубликованной пятилеткой ВСНХ, по которой вложения в промышленность извне должны упасть с 285,3 млн. руб. в 1927-28 г. до 104,5 млн. руб. в 1931-32 г. (стр. 125). Доля собственных средств промышленности, то есть прибыли и амортизационных отчислений, в предусмотренных капитальных затратах непрерывно повышается за тот же период с 75% до 95,5% (стр. 124). Это значит, что чем дальше, тем меньше бюджет будет служить орудием ускорения индустриализации и направления средств кулака и нэпмана в промышленность.
Что говорят тезисы ЦК поэтому важнейшему вопросу пятилетнего плана? Какие они дают цифры капитальных затрат? Цифры необходимых размеров финансирования промышленности для ликвидации товарного голода? Никаких. Они ограничиваются только бесформенным указанием, что
«увеличение внутрипромышленного накопления, наряду с перераспределением в пользу индустрии народного дохода, позволит осуществить капитальные вложения в промышленность в размерах, обеспечивающих необходимый рост производства и его рационализацию».
Таким образом, никакого делового, конкретного ответа по основному вопросу социалистического строительства ЦК не имеет. Но говорить о ведущем начале — промышленности и об укреплении смычки города и деревни, не умея указать конкретных мер к предотвращению разрастания товарного голода до чудовищных цифр в 1.000—1.500 млн. рублей, значит вести партию вслепую к величайшим хозяйственным потрясениям.
Зато мы имеем по этому вопросу ответ Госплана. В той же пятилетке, в которой Госплан предвидит указанный выше рост товарного голода, он устанавливает, что лечить эту болезнь можно и должно только за счёт рабочего класса. Пятилетка Госплана не возлагает никаких надежд на изъятие доходов городской буржуазии, так как:
«во-первых, эта наша новоявленная после революции прослойка нэповской буржуазии в нашем городском населении очень тонка, и уже поэтому не может служить источником для бюджетных изъятий, а, во-вторых, это отнюдь не самостоятельный источник, ибо, облагая налогами доходы капиталистического сектора, мы все равно можем извлечь из него только то, что создано трудом крестьян и рабочих». (Стр. 28).
Итак, Госплан полагает, что извлекать средства для индустриализации из доходов капиталистов нельзя и безнадёжно потому, во-первых, что их немного, и потому, во вторых, что эти доходы созданы трудом рабочих и крестьян!
Но, с другой стороны, и «деревня» (читай: кулак) не может служить источником социалистического накопления вследствие низкого уровня производительности труда и низкого душевого дохода. Отсюда делается естественный вывод, что
«основным источником и для бюджетных изъятий и для социалистического накопления вообще может служить лишь более производительный внеземледельческий труд» (читай: рабочий класс).
Пятилетка Госплана не получила официального признания, но «сумма идей», которые нашла в ней свое выражение, чрезвычайно характерна для нынешнего хозяйственного руководства. Эта пятилетка ясна. Она является обоснованием практики, мечтающей заткнуть противоречия нашего развития усиленным нажимом на мускулы рабочего, охраняя — под любым предлогом — накопления капиталистических слоев. Но что противопоставляют этой политике тезисы ЦК? — Ничего. Дают ли они решительный отпор этим тенденциям? — Нет. Дают ли они самостоятельной план решения коренного вопроса о капитальных затратах промышленности? — Нет. И этим они помогают тому, что на практике все больше торжествуют антипролетарские тенденции в основном вопросе о соотношении социалистических и капиталистических элементов нашего хозяйства.
VII. Положение рабочих и переход на 7-часовой рабочий день.
Зарплата. Относительно размеров возможного повышения заработной платы в течение ближайшего пятилетия и роста производительности труда все имеющиеся пятилетки дают разные ответы. Тезисы ЦК не дают и в этой области никакой хотя бы приблизительной цифровой директивы, ограничиваясь несколькими бессодержательными общими фразами.
Вместе с тем и в составленных до настоящего времени пятилетних планах вопросы труда поставлены совершенно неудовлетворительно.
Пятилетний план должен предусмотреть такое увеличение реальной заработной платы, которое означало бы на деле систематическое, а к концу пятилетки значительное, повышение жизненного уровня рабочего класса. Между тем, разработанные Госпланом варианты пятилетних планов не дают гарантии действительного, серьезного улучшения рабочего быта, не говоря уже о том, что пятилетка Госплана обходит полным молчанием столь важную отрасль, как охрана труда. Согласно этим планам, номинальная заработная плата за пять лет должна вырасти приблизительно на 33% — первый вариант, на 26% — последний вариант, реальная заработная плата около 50% — первый вариант, около 40% — последний вариант. Таким образом, даже это далеко не достаточное повышение заработной платы предположено в значительной части осуществить за счёт понижения цен.
Между тем, нынешняя политика — политика товарного голода — ставит осуществимость значительного понижения цен, а следовательно и поднятия реальной зарплаты, под очень большой вопрос. Доказательством может служить явная несостоятельность расчётов уже на первый год пятилетки. На 1927-28 г. предположен был рост номинальной заработной платы на 6.5%, а реальной — на 11-12 %. Однако, движение цен в последнее время делает эти предположения о повышении реальной зарплаты нереальными.
Между тем, значительное снижение реальной заработной платы, начавшееся в 1926 году, было преодолено лишь к началу 1927 года. Месячная зарплата в первых двух кварталах 1926-27 хозяйственного года составляла в среднем по крупной промышленности в московских рублях 30 р. 67 к. и 30 р. 33 к. против 29 р. 68 к. осенью 1925 года. В третьем квартале зарплата составила по предварительным исчислениям 31 р. 62 к. Таким образом, реальная зарплата в нынешнем году лишь ничтожно превышает осенний уровень 1925 года. Разумеется, зарплата и общий материальный уровень отдельных категорий рабочих и отдельных районов, прежде всего столиц — Москвы и Ленинграда, несомненно, выше указанного среднего уровня. Но, с другой стороны, материальной уровень очень широких рабочих слоев значительно ниже даже этих средних цифр. Рост заработной платы отстает от роста производительности труда. Напряжённость труда растёт, нагрузка на мускулы рабочего повышается. Безработные прямо или косвенно ложатся на бюджет рабочего. Проводимая ныне рационализация производства неизбежно ухудшает положение рабочего класса, поскольку не сопровождается таким развёртыванием промышленности, транспорта и пр., которое поглощало бы увольняемых рабочих. Особенно трудным является материальное положение чернорабочих, сезонных рабочих, женщин и подростков.
Что касается жилищных условий для рабочих, то в настоящий момент на душу рабочего населения приходится девять квадратных аршин (см. контр. цифры Госплана на 1926-27 г.). В городах жилплощадь, приходящаяся на рабочих, ниже, чем у всех других слоев населения, и все время уменьшается. Уже один этот факт неопровержимо свидетельствует о возрастающем материальном нажиме других классов на пролетариат. Мало того, согласно опубликованной пятилетке Госплана, при затратах на жилстроительство около 700 млн. рублей в конце 1931 г. норма общей жилплощади будет ниже, чем в 1926 году. При затратах около 1 миллиарда рублей, предполагаемых пятилеткой ВСНХ, через пять лет будет лишь сохранена существующая теперь жилищная норма рабочих. Вместо того, чтобы или принять эту наметку Госплана или её отвергнуть как пессимистическую, дав при этом указание, за счёт чего произвести увеличение жилстроительства, тезисы ЦК ограничиваются по этому больному вопросу общим пожеланием об увеличении жилплощади для рабочих. Как этого достигнуть при теперешнем темпе индустриализации, об этом в тезисах не говорится ни слова.
Ещё более недопустимым образом обходят тезисы вопрос о безработице. Предсказания госплановской пятилетки насчёт безработицы в 1927 году уже провалились. Вместо цифры госплановский пятилетки в 1.131 тыс. мы имеем в апреле этого года 1.478 тыс. зарегистрированных безработных, а по данным Госплана к началу 1927 г. число безработных равнялось 2.275 тыс., включая 600 тыс. сезонных (опубликованная пятилетка ВСНХ, стр. 93). Согласно расчётам т. Струмилина в первом проекте пятилетки, аграрное перенаселение деревни, при условии поглощения сельским хозяйством новых 8 миллионов работников и отхода в город 3 миллионов, «в лучшем случае лишь не возрастёт против теперешних его размеров» (пятилетка Госплана, стр. 16). Из этого следует, что для удержания хотя бы нынешнего уровня безработицы в городе и деревне нужно гораздо более быстрое развёртывание промышленности в сравнении с планами всех имеющихся пятилеток.
Обслуживание страхкассами безработных вызывает совершенно справедливые нарекания с их стороны. Средний размер пособия равен около 5 довоенным рублям. Этой помощью охвачено, примерно, только 20% безработных членов профсоюзов.
2 миллиона безработных в городах и 1 миллиард пудов неиспользованных хлебных запасов в деревне — это наиболее яркая и наглядная картина тех противоречий, перед которыми стоит наша хозяйство, и которые в огромной степени накоплены в результате ошибок теперешнего руководства.
Что такое безработица при государственном хозяйстве?
Это прежде всего — недостаток новых средств производства, нового капитала у государства.
А что такое миллиард пудов неиспользованных хлебных запасов?
Это — мёртвый капитал советского общества, находящийся в руках главным образом зажиточно-кулацких слоев деревни. 150 млн. пудов хлеба из полумиллиарда пудов, остающихся после отчисления страхового запаса, дали бы нам новых средств производства на сотни миллионов рублей (считая эти средства производства в наших внутренних ценах). Этот огромный новый капитал дал бы возможность занять многие десятки тысяч безработных, выбросить на рынок на сотни миллионов добавочных товарных масс и дать мощный толчок развитию всего хозяйства. Оппозиция ни на минуту не поколебалась бы взять на себя обязательство провести в жизнь этот план в качестве одной из составных частей своей общей программы выхода из кризиса. Большинство же ЦК беспомощно топчется и осуждено топтаться на одном месте, упорствует в своих ошибках, ещё более обостряя и без того трудное положение. Никуда не годится та политика, которая беспомощное топтание выдает за высшую «осторожность»!
В своей платформе оппозиция исходила из той простой мысли, что для успешности строительства социализма нужно, чтобы рабочий класс на деле, на жизненном опыте из месяца в месяц и из года в год ощущал и сознавал повышение своего материального и культурного уровня и свою возрастающую роль во всех областях строительства и творчества. Вот почему оппозиция ополчилась против попыток осуществлять режим экономии или рационализации путём нажима на рабочих. Вот почему оппозиция требовала более решительного повышения заработной платы рабочего и ряда других мер как необходимой предпосылки роста производительных сил.
Программа практических мер по улучшению положения рабочих была изложена в платформе оппозиции.
Исходя из этой своей программы оппозиция при обсуждении юбилейного манифеста предлагала построить его рабочую часть на следующих практических предложениях:
1) Пресечь в корне всякие поползновения к удлинению 8-часового рабочего дня. Не допускать злоупотреблений наймом временной рабочей силы и подведения постоянных рабочих под сезонных. Отменить все удлинения рабочего дня во вредных цехах, допущенные в отступление от ранее изданных положений.
2) Ближайшей задачей признать повышение заработной платы, по крайней мере в соответствии с достигнутым повышением производительности труда.
3) Пресечь бюрократические безобразия в области рационализации. Рационализация должна быть тесно связана с надлежащим развёртыванием промышленности, плановым распределением рабочей силы и с борьбой против растраты производительных сил рабочего класса, в частности против растраты кадра квалифицированных рабочих.
4) Ряд мер для смягчения последствий безработицы: увеличение пособий безработным, в первую очередь индустриальным; удлинение сроков выдачи пособий безработным от 1 до 1 1⁄2 лет; энергичная борьба против экономии на застрахованных; широко задуманные планы многолетних общественных работ и т.д.
5) Систематическое улучшение жилищных условий для рабочих. Твёрдое проведение классовой политики в вопросах квартирной платы. Не выселять сокращаемых и увольняемых рабочих из занимаемых ими жилищ.
6) Коллективные договоры должны проходить через действительное, а не показное обсуждение на собраниях рабочих.
7) Положить конец постоянным изменениям норм и расценок.
8) Усилить ассигнования на технику безопасности и улучшение условий труда.
9) Произвести пересмотр всех разъяснений кодекса законов о труде и отменить те из них, которые дали ухудшение условий труда.
10) В отношений работниц: за равный труд — равная зарплата.
11) Признать недопустимым введение бесплатного ученичества. Недопустимо фактически проводящееся снижение зарплаты подросткам-рабочим.
12) Режим экономии ни в коем случае не должен проводиться за счёт жизненных интересов рабочих. Необходимо вернуть рабочим отнятые у них «мелочи» (ясли, трамвайные билеты, более длительные отпуска и т.д.).
13) Усилить лечебную помощь рабочим на предприятиях (амбулатории, больницы и т.д.).
14) В рабочих районах увеличить число школ для детей рабочих.
Эти предложения оппозиция внесла на заседании коммунистической фракции второй сессии ЦИК СССР (15 октября 1927 г.) в Ленинграде, где впервые обсуждался вопрос о манифесте.
И тут же, в этих же предложениях, особым пунктом мы писали:
«После этого поставить на очередь практическое проведение реформы рабочего дня с целью дальнейшего сокращения рабочего дня до 7 часов».
Каковы ответы оппозиции на вопрос об улучшении положения рабочих.
Большинство ЦК неизменно обвиняло по этому поводу оппозицию в демагогии, в защите «цеховых» интересов пролетариата и задавало один и тот же вопрос: где взять средства?
Разумеется, всякий коммунист стоит за сокращение рабочего дня. Социалистическое государство может и должно идти от 8-часового рабочего дня к 7- и 6-часовому рабочему дню. Об этом не может быть спора. И если бы вопрос о введении 7-часового рабочего дня был поставлен практически, серьёзно, то, конечно, каждый из нас счёл бы своим долгом помочь проведению этого в жизни. Но манифест поставил этот вопрос крайне неопределённо. В самом деле, что сказано на этот счёт в манифесте?
«В отношении производственных фабрично-заводских рабочих обеспечить на протяжении ближайших лет переход от восьмичасового рабочего дня к семичасовому рабочему дню без уменьшения заработной платы, для чего обязать президиум ЦИК и СНК Союза ССР приступить не позже, чем через год, к постепенному осуществлению этого постановления по отношению к отдельным отраслям промышленности в соответствии с ходом переоборудования и рационализации фабрично-заводских предприятий и ростом производительности труда».
Итак, не позже чем через год «приступить» (!) к «постепенному» осуществлению, начав с отдельных отраслей промышленности (каких именно — не сказано), проводить все это по мере роста рационализации, улучшения оборудования и роста производительности труда. Вообще же проведение 7-часового рабочего дня обеспечить «на протяжении ближайших (скольких?) лет». Ничего точного, ясного, категорического.
В пятилетние планы наших хозорганов вопрос этот не вошёл. Никакого предварительного обсуждения с рабочими не было ни в партийном ни в профсоюзном порядке. Каждый рабочий и все мы в том числе, конечно, будем стоять за 7-часовой день, если это не будут пустые слова, предсъездовское «красное яичко», если зарплата при этом не будет снижаться и т.д.
В течение двух лет на всех перекрёстках кричали о нашей мнимой «демагогии» именно за то, что мы выдвигали во главу угла вопрос о зарплате. «Где взять средства», — гремели нам в ответ. Ну, а где взять средства на проведение 7-часового рабочего дня? Если проводить его без сокращения зарплаты рабочих, то это должно обойтись миллионов в 500 в год для промышленности и транспорта. Если эти средства мы найти можем, тогда надо спросить самих рабочих: куда прежде всего направить эти средства — на поднятие ли зарплаты, на жилищное строительство или на 7-часовой рабочий день? Почему же ЦК не спросил об этом рабочих? Ведь здесь дело идёт не о дипломатических тайнах, не о сношениях с чужими державами, где можно ссылаться на секреты. Мы-то думаем, что средства найти можно, если не на словах, а на деле начать нажим на кулака, нэпмана, бюрократа, если серьёзно предпринять передвижку в бюджете.
Как представлялся вопрос о семичасовом рабочем дне руководителям нынешнего большинства всего только год назад, об этом лучше всего свидетельствует речь тов. Бухарина на XV партконференции, в заседании 2 ноября 1926 г.
Тов. Бухарин следующими словами изображал линию оппозиции:
«У нас социал-демократический уклон, — как же это так? Ведь мы требуем большего жалования рабочим, мы требуем 40% бедноты от налога освободить и в Амстердамский Интернационал не хотим входить».
На это т. Бухарин возражал:
«А я вас спрашиваю… если бы на Съезде Советов мы имели чисто парламентскую буржуазную фракцию? (Сталин: «Меньшевисткую»). Я не говорю уже о меньшевистской, но если бы мы имели даже буржуазную фракцию? Что же вы думаете, она не проявляла бы величайшего рабочелюбия? Да, она высказалась бы за 7-часовой рабочий день… Почему бы она все это говорила? Потому, что ей надо было бы опереться на массы для того, чтобы спихнуть нас. А уж потом она распропоказала бы им этот семичасовой рабочий день!..
Тов. Троцкий (по поводу взглядов оппозиции) говорит: «что же тут социал-демократического?» Но это значит только то, что вы не поняли основной механики развития политических сил» (Стенограф. отчет, стр. 592-593).
Эти замечательные слова сказаны были как бы специально для того, чтобы облегчить партии понимания «механики» политического развития той фракции, теоретиком которой состоит Бухарин. Ещё только год назад в качестве наиболее яркого, наиболее очевидного примера социальной демагогии Бухарин приводил лозунг 7-часового рабочего дня. Он вкладывал этот лозунг в уста не только меньшевистской но и чисто буржуазной фракции. На такую явную авантюру могла бы, — по мысли Бухарина, — пуститься та или другая группа для того, чтобы завоевать (или, может быть, удержать в своих руках?) власть, а затем уже показать рабочим (по Бухарину: распропоказать), что означает этот 7-часовой рабочий день на деле. Таким образом, механику политической демагогии в связи с 7-часовым рабочим днём Бухарин очень точно и конкретно разъяснил за год до того, как оказался вынужден сам прибегнуть к ней.
В данном случае не может помочь даже и обычная бухаринская ссылка на «изменившуюся обстановку», которая-де превращает в реальность то, что год или два тому назад было будто бы оппозиционной демагогией. Ведь и сейчас ещё 7-часовой рабочий день не вводится в жизнь: он только намечен к проведению в течение «ближайших лет». И если всего лишь год назад Бухарин приводил лозунг 7-часового рабочего дня как крайний образец злейшей демагогии, то приходится сделать тот вывод, что обстановка действительно резко изменилась — только не в хозяйственном, а в партийно-политическом отношении: пробуждение пролетарского авангарда и рост оппозиции вынудили фракцию Сталина дополнить политику репрессий политикой безответственной демагогии.
Во всяком случае, партия имеет право сказать:
Либо ЦК был прав вчера, когда утверждал, что для более быстрого повышения материального уровня масс нет средств; в таком случае величайшим легкомыслием является провозглашение 7-часового рабочего дня;
либо же 7-часовой рабочий день осуществим, — и в таком случае в корне ложны были обвинения в демагогии по адресу оппозиции, которая требовала более планомерного и решительного повышения жизненного уровня масс.
Ускорить темп индустриализации, улучшить жизненный уровень рабочих масс и подготовить условия для действительного, а не словесного перехода к 7-часовому рабочему дню можно только посредством выпрямления всей линии партии.
VII. Корни наших затруднений.
Общую, основную причину наших хозяйственных затруднений можно в кратких словах сформулировать так.
Промышленность развивается за последние годы слишком медленно, отставая от развития народного хозяйства в целом, так что у города не хватает товаров в обмен на продукты деревни. Неправильная политическая линия — в частности, неправильная налоговая политика облегчает кулачеству сосредоточение в его руках львиной доли хлебных и иных запасов. Эта диспропорция является постоянным источником роста паразитических элементов, спекуляции, громадных прибылей капиталистических слоев.
В то же время идёт быстрый рост капиталистических элементов в земледелии на базе мелкого товарного производства. Растёт, благодаря этому, зависимость государственного хозяйства от кулацко-капиталистических элементов в области сырья, экспорта, продовольственных запасов.
Опираясь на свои усиливающиеся экономические позиции и растущие запасы, кулацкие элементы, в союзе со своим капиталистическим дополнением в городе, ломают хозяйственные планы советской власти, ставя фактически свой кулацкий предел экспорту, а тем самым и капитальным затратам и темпу индустриализации, то есть фактически темпу социалистического строительства.
В прямой связи с этими основными явлениями находится слабое развитие экспорта, недостаток импорта средств производства, недостаток новых капиталов для постройки новых заводов, расширения и переоборудования старых, непрерывный рост безработицы в городе и в деревне.
В результате, к концу десятилетия мы имеем не только хозяйственные успехи, как-то: непрерывный рост продукции государственной промышленности, рост капитальных затрат и нового строительства, увеличение товарооборота между городом и деревней при абсолютном и относительном росте кооперации и госторговли, улучшении материального положения среднего крестьянства, — но рядом с этим мы имеем и несомненный рост затруднений социально-классового характера.
Оппозиция требовала более быстрого развития промышленности путём более крепкого и систематического налогового нажима на кулака и частника и путём сжатия чудовищного бюрократического аппарата. Большинство ЦК обвиняло оппозицию в «сверх-индустриализме» и в «панике» перед кулаком. Большинство плавало без руля и без ветрил и надеялось на авось. Нынешними затруднениями партия расплачивается за хвостистскую политику руководства.
К началу настоящего года скопление натуральных запасов хлеба в деревне, главным образом у кулаков и зажиточных, достигло 800—900 млн. пудов. Эти запасы, превысившие необходимый страховой фонд, продолжают быстро расти, и к концу нынешнего сельскохозяйственного года повысятся ещё на 200—300 миллионов пудов и перевалят за миллиард. Этот факт является грозным показателем закупорки товарооборота с деревней, результатом чего будет неизбежно приостановка роста посевных площадей. Мы имеем здесь перед собой следствие недостаточного развития промышленности, не могущей обеспечить обменного фонда на эти запасы в деревне. Медленное развитие промышленности задерживает развитие земледелия.
В теснейшей связи с накоплением натуральных запасов в деревне находится вопрос о недостаточности нашего экспорта и о срыве наших экспортно-импортных планов зажиточно-кулацкими слоями деревни. Когда тов. Каменев осенью 1925 года совершенно правильно объяснил невыполнение экспортного плана по хлебу тем обстоятельством, что кулак задержал запасы хлеба и тем самым сорвал этот план, на него посыпался град нападок и специально заказанных для «опровержения» статистических таблиц. Но теперь скопление натуральных запасов в деревне, недосягаемых для наших заготовителей, превратило положение тов. Каменева в азбучную истину для каждого хозяйственника. Более того, его преемнику тов. Микояну приходится иметь дело со срывом первоначального экспортного плана по хлебу в настоящем году, с перспективой срыва и импортного плана, и без того крайне урезанного. Этот второй «просчет» является тем менее простительным, что он сделан два года спустя после первого, то есть в условиях, когда последствия дифференциации деревни стали очевидны для всех. В своей статье в № 252 «Правды» тов. Микоян совершенно правильно указывает на то, что «обороты нашей внешней торговли являются лимитами (пределами), которые определяют темп нашего индустриального развития». Кто же устанавливает эти лимиты? Размеры внешней торговли определяются отчасти цифрой нашего промышленного экспорта (35,8% — в 1925-26 г.), главным же образом — размерами сельскохозяйственного экспорта, давшего в 1925-26 году 64,2% всего вывоза. А так как хлебные и сырьевые экспортные излишки мы получаем прежде всего от зажиточных слоев деревне и так как именно эти слои больше всего придерживают хлеб, то и оказывается, что через экспорт нас «регулирует», прежде всего, кулак и зажиточный. Внешняя торговля справедливо считается у нас одной из важнейших командных высот государственного хозяйства. Капиталистическое развитие нашей деревни приводит к тому, что известная и очень важно часть этой командной высоты (важная, поскольку мы являемся преимущественно аграрной страной) переходит к нашему классовому врагу. Здесь перед партией и рабочим классом вырисовывается во весь свой рост одна из наиболее угрожающих итогов той политики, которую проводил ЦК со времени XIV партсъезда под лозунгом «огонь налево». Этот убийственный итог делается теперь понятным каждому рядовому рабочему. Этот итог означает: урезывание экспорта при наличии миллиарда пудов натуральных хлебных запасов, затруднения с ввозом необходимейшего сырья, в том числе для текстильной, шерстяной, кожевенной отраслей промышленности, изготовляющих предметы широкого потребления, затруднения с ввозом необходимейшего машинного оборудования, затруднения в области расчётов по кредитным обязательствам за границей, рост товарного голода в городе и деревне.
Объективный смысл хозяйственной политики ЦК за последние два года свёлся к тому, что под её покровом происходил усиленный рост позиций капиталистического сектора, прежде всего в земледелии, который теперь явно давит на хозяйственные планы советской власти, ломая их. Это видят теперь и слепые (см. выше цитированные заявления т. Микояна и другие места из той же его статьи). Но только тот, кто хочет оставаться слепым и дальше, может не видеть, что указанные выше затруднения прямым путём приводят к вопросу о монополии внешней торговли.
Из создавшегося положения, которое долго тянуться не может, есть только два выхода.
Первый выход — это предлагаемый оппозицией обязательный хлебный заем у 10% зажиточно-кулацких дворов деревни в размере 150—200 миллионов пудов. По удовлетворению потребности городов этот хлеб вывозится за границу, а на вырученную валюту закупается добавочное количество сырья и оборудования для промышленности и, таким образом, создаются внутри страны добавочные массы товаров для сокращения товарного голода в деревне и продовольственных неурядиц в городе.
Кто отказывается от этого пути, тому остается только отступление от монополии внешней торговли, привлечение к экспорту-импорту иностранного капитала, ввоз иностранных товаров для деревни и вывоз скопившихся масс хлеба. Теперешнее большинство ЦК, при усвоенной им политике топтания на одном месте во всех острых вопросах, органически неспособно вовремя избрать для решения вопроса ни левый путь, ни правый. Но сама нерешительность ведёт к тому, что решения будут приниматься спешно, в порядке паники и неизбежно на путях правой политики.
Оппозиция нигде и никогда не говорила, будто ЦК решил отменить монополию внешней торговли, признать все старые долги и пр. Идея отмены или «смягчения» монополии внешней торговли нигде официально не провозглашается, ни на собраниях, ни в печати. Но в канцеляриях разных ведомств и в узких кругах дельцов, в том числе и коммунистических, «реформа» системы внешней торговли, в смысле её «смягчения», все более откровенно признается необходимым условием роста сельскохозяйственного экспорта и развития производительных сил страны (разумеется, на капиталистическом, а не на социалистическом пути). Направление политики ЦК и объективные её последствия сильнее всяких словесных обязательств. Против надвигающегося зигзага вправо в вопросе о внешней торговле оппозиция и предупреждает партию.
Как же отвечают на все эти краеугольные вопросы хозяйства и социалистического строительства тезисы ЦК? Никак! В качестве ответа на все затруднения тезисы ЦК говорят следующее:
«Единственно правильным путём изживания вышеуказанных диспропорций является путь понижения себестоимости промышленной продукции на основе энергично проводимой рационализации индустрии и её расширения, следовательно, на основе политики снижения промышленных цен; путь развития трудоемких культур в деревне и индустриализации самого сельского хозяйства (через развитие, в первую очередь, индустрии по первичной обработке продуктов сельского хозяйства); путь всемерного привлечения мелких сбережений (внутренние займы, сберегательные кассы, привлечение вкладов в кооперацию, постройка кооперативных заводов) и увязка их с кредитной системой».
В какой же мере соответствует этим расплывчатым директивам плановая практика, нашедшая свое выражение в пятилетке Госплана и ВСНХ?
Опубликованная пятилетка Госплана проектирует в области промышленности снижение отпускных цен на 16,8% и прирост производительности труда на 50,5% (см. пятилетку Госплана, стр. 155). Опубликованная пятилетка ВСНХ проектирует снижение промышленных цен на 17,5% (стр. 648) и прирост производительности на 50,7% (стр. 102). Новый вариант пятилетки ВСНХ, ещё не опубликованный, проектирует снижение отпускных цен на 22% и рост производительности труда на 66%
Наряду со снижением цен пятилетки предусматривают следующее снижение себестоимости: пятилетка Госплана — 17,7% (стр. 155), ВСНХ — 16,5% (стр. 407), новый вариант ВСНХ — 24,4%
Все эти пятилетки исходят из того, что в области сельского хозяйства цены остаются неизменными, а рост производительности труда в земледелии составит 15% на душу сельского населения (пятилетка Госплана, стр. 12).
По поводу этих предложений надо сказать, прежде всего, что опыт снижения себестоимости, проводившийся за последние два года, отнюдь не способен внушить надежду на то, что это задача — при данном руководстве — может быть решена. В 1925-26 г. предполагалось снизить себестоимость на 5—7%; в действительности произошло повышение её на 1,7%
Директива о снижении себестоимости промышленных товаров в 1926-27 г. на 5% осталась невыполненной.
За первое полугодие 1926-27 года себестоимость промышленной продукции не только не понизилась, как это намечалось по плану, но даже повысилась на 1,2%. Итоги второго полугодия вряд ли существенно изменят картину. В лучшем случае речь может идти о снижении за год в размере 1,5—2%.
Несмотря на эту неудачу, промышленность, в порядке проведения компании по снижению цен, снизила свои отпускные цены примерно на 5% Результатом было значительное сокращение накоплений промышленности. Кооперация и госторговля также провели снижение цен не за счёт экономии и удешевления аппарата, а, главным образом, за счёт сокращения накоплений.
Это значит, что вся компания по снижению цен была основана на чисто-административном нажиме, а не на продуманной системе экономических мероприятий. Именно поэтому обходы формально сниженных цен носили массовый характер.
Приводя официальный индекс цен, Госплан (в сентябрьском обзоре конъюнктуры) должен был сам признать, что
«цены на изделия промышленности, находясь под влиянием политики снижения цен и запрещения поднимать цены на недостаточные товары, не отражают всей остроты разрыва на рынке промтоваров между спросом и предложением». («Экономическая Жизнь» от 27 октября 1927 г.).
Это есть по-чиновничьему замазанное признание того, что на деле массовый потребитель реального снижения не почувствовал.
В то же время огромное расхождение между внутренним уровнем цен и уровнем мировых цен за 1927 год ещё более ухудшилось сравнительно с осенью 1926 года. На 1 июля 1927 г. наши оптовые цены более чем в 2 1⁄2 раза превосходили мировые оптовые цены, не говоря уже о розничных, где расхождение ещё больше. («Финансы и Нар. Хоз.», № 42).
Политика снижения себестоимости, отпускных и розничных цен, поднятия производительности труда есть единственная политика, которую может и должна проводить советская власть. Но тезисы ЦК опять-таки забывают мелочь: противоречивость нашего хозяйственного развития, классовую обстановку СССР, столкновение интересов между социалистическим строительством пролетариата и интересами капиталистического сектора нашего хозяйства.
Совершенно ясно, что предпосылкой снижения себестоимости и цен является, в первую очередь, переоборудование заводов и постройка новых. Между тем, тезисы ЦК старательно обходят вопрос о том, что для этого необходимо предварительно перераспределить народный доход, перебросив значительную часть его из капиталистического сектора в социалистический, от кулацкого хозяйства — в государственную промышленность, от нэпмановского накопления — на улучшение материального положения рабочего класса как необходимое условие повышения производительности его труда. Об этом оппозиция твердит уже давно, и с этим у нас безнадёжно запоздали под тем предлогом, что если тронуть кулака и зажиточного, то середняк за него обидится.
Умалчивая об этом, тезисы ЦК неизбежно переносят тяжесть решения всей этой задачи на плечи рабочего класса.
Действительно, новый вариант пятилетки ВСНХ предусматривает сокращение себестоимости в значительной мере за счёт более жёстких норм по труду, за счёт снижения накладных расходов на зарплату (освобождение предприятия от расходов на коммунальные услуги, ясли, дома отдыха и т.д.) и снижение процента отчисления на социальное страхование.
Мало того. Тезисы ЦК не хотят понять, и, во всяком случае, не говорят партии о том, что политика снижения цен на промышленные товары будет обозначать не только расширение товарооборота с деревней и смягчения товарного голода, что необходимо и полезно, не только укрепление смычки с беднотой и середняком и укрепление их хозяйства, что является громадным достижением, но неизбежно будет означать и создание более благоприятных условий накопления для кулацкой верхушки деревни. Кулак сможет обменять свои запасы на большее количество промышленных товаров и тем ещё более усилит свое накопление, то есть орудие своего давления на середняка и бедноту, и повысит свой удельный вес. Если бы тезисы ЦК отдавали себе отчёт в этом, они должны были бы рядом с политикой снижения себестоимости и цен указать ряд мер, направленных против использования результатов этой правильной политики капиталистическими элементами нашего хозяйства.
Что нужно сделать для избежания такого результата?
Нет и не может быть спора о том, что нужно стремиться к систематическому снижению себестоимости в промышленности и систематическому снижению промышленных цен, при неизменности их на с.-х. продукты. Но одно это не решает вопроса о преодолении диспропорции. Необходимо одновременно во всех пятилетних планах предусмотреть систематически возрастающее изъятие сотен миллионов руб. на индустриализацию из накоплений крепкого, зажиточного и особенно кулацкого хозяйства, наряду с нажимом на частника и «уплотнением» бюрократии. Иначе вся тяжесть развёртывания промышленности в условиях снижения промышленных цен ляжет на плечи рабочего класса. Между тем, ни в одной из пятилеток, ни в тезисах ЦК даже не поставлен вопрос о том, куда пойдут огромные накопления зажиточной части деревни, которые будут расти из года в год помимо всего прочего также и вследствие того, что сельскохозяйственные продукты будут обмениваться на непрерывно снижающиеся в цене промышленные товары.
IX. Где взять средства?
На вопрос, где взять средства для более смелого, более революционного разрешения задач действительной индустриализации и более быстрого подъёма культуры масс, то есть задач, от разрешения которых зависит судьба социалистической диктатуры, оппозиция отвечает:
Основным источником средств является перераспределение народного дохода путём правильного использования бюджета, кредита и цен. Дополнительным источником средств должно явиться правильное использование связи с мировым хозяйством.
1) Чистые вложения из бюджета на нужды индустриализации могут и должны достигнуть 500—1.000 миллионов в год в течение ближайшего пятилетия.
2) Через налоговую систему необходимо: а) провести действительное обложение всех видов сверхприбыли частных предпринимателей в размере не менее 150—200 миллионов рублей, а не 5 миллионов, как сейчас; б) в целях усиления экспорта, изъять у зажиточно-кулацких слоев, примерно у 10% крестьянских дворов, в порядке займа не менее 150 миллионов пудов хлеба из натуральных запасов. По удовлетворении потребности городов этот хлеб даст возможность ввезти из-за границы добавочное количество сырья и оборудования для промышленности.
3) Решительную политику систематического и неуклонного снижения отпускных и розничных цен и сжатия оптово-розничных «ножниц» нужно проводить на деле таким образом, чтобы снижение цен распространялось в первую голову на предметы широкого потребления рабочего и крестьянина (без практикуемого ныне ухудшения качества, и без того крайне низкого) и чтобы это снижение не лишало госпромышленность необходимого накопления, а шло главным образом путём увеличения товарной массы и за счёт снижения себестоимости, уменьшения накладных расходов, сокращения бюрократических аппаратов и т.д.
Более сообразующаяся с условиями рынка, более гибкая, более индивидуализированная, то есть считающаяся с положением каждого товара на рынке, политика снижения отпускных цен может сохранять в руках госпромышленности громадные суммы, питающие ныне частный капитал и торговый паразитизм вообще.
4) Режим экономии, который должен был согласно прошлогоднего воззвания Сталина-Рыкова дать 300—400 миллионов руб. в год, на деле дал совершенно ничтожные результаты. Режим экономии есть вопрос классовой политики и может быть осуществлен только под непосредственным нажимом масс. Для этого рабочие должны уметь нажимать. Снизить непроизводительный расходы на 400 миллионов рублей в год вполне возможно.
5) Умелое использование таких орудий, как монополия внешней торговли, иностранные кредиты, концессии, договоры технической помощи и т.д., может отчасти дать дополнительные средства, а главное, чрезвычайно повысить целесообразность наших собственных затрат, оплодотворяет их новой техникой, ускоряя весь ход нашего развития и тем самым укрепляя нашу действительную социалистическую независимость от капиталистического окружения.
6) Вопрос о подборе людей — снизу доверху — и о неправильных между ними взаимоотношениях является не в последнем счёте финансовым вопросом. Чем хуже подбор, тем больше нужно средств. Правильному подбору и правильным отношениям противодействует бюрократический режим.
7) Хвостизм хозяйственного руководства означает на практике потерю многих десятков миллионов как пеню за непредусмотрительность, несогласованность, крохоборство, отставание. Так, одна только текучесть рабочего состава наших промышленных, торговых и пр. предприятий, вызываемая в огромной степени непредусмотрительностью и бесплановостью, обходится государственному хозяйству, по некоторым исчислениям, около полмиллиарда рублей («Торгово-Пром. Газета» от 2 августа 1927 г., № 173).
8) Налоговые средства не могут покрыть все возрастающих требований народного хозяйства. Кредит должен становиться все более важным рычагом перераспределения народного дохода для целей социалистического строительства, что прежде всего предполагает укрепление режима твёрдой валюты и здоровое денежное обращение.
9) Более классово-выдержанная хозяйственная политика, сужающая рамки спекуляции и ростовщичества, облегчит более успешную мобилизацию частных накоплений государственными и кредитными учреждениями и несравненно более широкое, чем ныне, финансирование промышленности в форме долгосрочного кредита.
10) Сокращение огромных издержек обращения, поглощающих почти 19% народного дохода против 8,5% довоенных, и ускорение оборачиваемости государственных капиталов явятся также источником значительных средств.
11) Государственная продажа водки введена была первоначально в виде опыта и с тем, что главная часть дохода от неё пойдёт на дело индустриализации, прежде всего на поднятие металлургии. В действительности дело индустриализации только потеряло от введения государственной продажи водки. Опыт следует признать совершенно неудавшимся. При советском строе государственная продажа водки означает минус не только на стороне частного хозяйства, как при царизме, но главным образом на стороне государственного хозяйства. Увеличение прогулов, небрежная работа, повышение брака, порча машин, рост несчастных случаев, пожары, драки, увечья и пр. измеряются в год сотнями миллионов рублей. Государственная промышленность теряет от водки не меньше, чем получает от водки бюджет, и в несколько раз больше, чем сама промышленность получает из бюджета. Прекращение государственной продажи водки в кратчайшей срок (2—3 г.) автоматически повысит материальные и духовные ресурсы индустриализации.
Таков ответ на вопрос, где взять средства. Неправда, будто темп индустриализации упирается непосредственно в отсутствие ресурсов. Средства скудны, но они есть. Нужна правильная политика.
Пятилетки Госплана и ВСНХ должны быть категорически отвергнуты и осуждены, как в корне несовместимые с задачей «превращения России нэповской в Россию социалистическую».
Необходимо осуществить передвижку в деле распределения налоговой тяжести между классами, нагрузив кулака и нэпмана, облегчив рабочих и бедноту. Понизить удельный вес косвенных налогов.
Обеспечить безусловную устойчивость денежной единицы. Упрочение червонца требует снижения цен, с одной стороны, бездефицитного бюджета, с другой. Недопустимо использование эмиссии для покрытия бюджетного дефицита.
Нужен строго целевой бюджет, бездефицитный, жёсткий, и не терпящий ни лишнего, ни случайного.
В бюджете 1927-28 г. надлежит значительно повысить ассигнование на оборону (преимущественно на военную промышленность), на промышленность вообще, на электрификацию, на транспорт, жилстроительство, на мероприятия по коллективизации сельского хозяйства.
Дать решительный отпор покушениям на монополию внешней торговли. Взять твёрдый курс на индустриализацию, электрификацию и рационализацию, построенную на повышении технической мощи хозяйства и улучшении материального положения масс.
X. Два пути.
В стране существуют две исключающие друг друга основные позиции. Одна — позиция пролетариата, строящего социализм, другая — позиция буржуазии, стремящийся повернуть развитие на капиталистические рельсы.
Лагерь буржуазии и тех слоев мелкой буржуазии, которые тянутся за ней, возлагает все свои надежды на частную инициативу и личную заинтересованность товаропроизводителя. Этот лагерь ставит ставку на «крепкого крестьянина» с тем, чтобы кооперация, промышленность и внешняя торговля обслуживали именно его. Этот лагерь считает, что социалистическая промышленность не должна рассчитывать на государственный бюджет, что темп её развития не должен нарушать интересов фермерско-капиталистического накопления. Борьба за повышение производительности труда означает для крепнущего мелкого буржуа нажим на мускулы и нервы рабочего. Борьба за снижения цен означает для него урезку накоплений социалистической промышленности в интересах торгового капитала. Борьба с бюрократизмом означает для мелкого буржуа распыление промышленности, ослабление планового начала, отодвигание на задний план тяжелой индустрии, то есть опять-таки приспособление к крепкому крестьянину, с близкой перспективой ликвидации монополии внешней торговли. Это — путь устряловщины. Это течение, сильное в стране, оказывает влияние и на некоторые круги нашей партии.
Как могла бы выглядеть программа этих кругов для сегодняшнего дня? Без риска ошибиться можно сказать, что эта программа, примерно, заключала бы следующие пункты:
Первое. — Сокращение уже намеченного минимального плана капитальных затрат.
Второе. — Перераспределение этих уже сокращенных затрат между производством средств производства и предметов потребления в пользу последних.
Третье. — Импорт готовых товаров из-за границы.
Четвёртое. — Кредитный зажим в отношении промышленности.
Пятое. — Сокращение ассигнований по госбюджету для промышленности.
Эта программа будет поддерживаться Кондратьевыми всех оттенков. Для них она гораздо более «жизненна», чем бухаринское «форсированное наступление» на кулака и капиталистические элементы вообще. Осуществление её на деле означало бы воспроизводство нынешних затруднений на расширенной основе, новый, ещё более правый манёвр, новый удар по пролетариату и социалистическому строительству.
Пролетарский путь выражен в следующих словах Ленина:
«Победу социализма над капитализмом, упрочение социализма можно считать обеспеченным лишь тогда, когда пролетарская государственная власть окончательно подавит сопротивление эксплуататоров и обеспечит себе совершенную устойчивость на началах крупного коллективного производства и новейшей (на электрификации всего хозяйства основанной) технической базы. Только это даст возможность такой радикальной помощи, технической и социальной, оказываемой городом отсталой и расслоенной деревне, чтобы эта помощь создала материальную основу для громадного повышения производительности земледельческого и вообще сельскохозяйственного труда, побуждая тем мелких землевладельцев силой примера и их собственной выгодой переходить к крупному коллективному, машинному земледелию». (Резолюция II конгресса Коминтерна).
Под этим углом зрения должна строиться вся политика партии (бюджет, налоги, промышленность, сельское хозяйство, внутренняя и внешняя торговля и пр.). Такова основная установка оппозиции. Это — путь социализма.
Между этими двумя позициями — все ближе к первой — проходила линия партийного руководства за последние два года, состоящая из коротких зигзагов влево и глубоких — вправо. Ни внезапно провозглашенный на страницах газет «крутой поворот», ни тезисы ЦК к съезду ни в малейшей мере не обеспечивают партии правильной, ленинской политики в дальнейшем. Наоборот. Несмотря на словесный «поворот», огонь по-прежнему и в ещё более жёсткой форме направлен налево, а не направо.
Однако, несмотря на напряженность обстановки, крайне обострённой грубыми ошибками нынешнего руководства, дело ещё поправимо. Но надо менять, и притом круто менять, линию партийного руководства в том направлении, которое дал Ленин.
Чтобы организовать правильное распределение народного дохода в интересах более быстрого развития производительных сил, укрепления пролетарской диктатуры и ускорения социалистического строительства, необходимо в первую голову:
а) осудить лозунг «огонь налево»;
б) понять и провозгласить, что опасность угрожает справа, то есть со стороны растущих буржуазных классов города и деревни и поддерживающих их устряловских и полуустряловских элементов как за пределами партии, так и внутри её;
в) не скрывать перед партией ничего из существующих затруднений;
г) прекратить травлю против оппозиции, призывающей партию организовать пролетарский отпор возрастающей буржуазной и бюрократической опасности, и издать для сведения всей партии платформу большевиков-ленинцев (оппозиции).