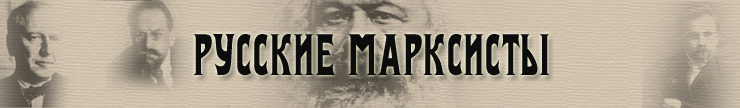|
Исаак Дойчер Трагедия Польской компартии март 1957 г. |
Английский текст: Marxism in our time, Ramparts Press, 1971, pp. 113—160.
Перевод с английского: Ф. Крайзель.
Следующее интервью было проведено в марте 1957 года. Время было драматичным, особенно в отношении политической жизни Польши. Годом раньше в марте 1956 года на ХХ-м съезде КПСС генсек Н. С. Хрущёв был вынужден осудить «культ личности» и объявить программу десталинизации. В июне 1956 года в Польше, в частности в городе Познань прошли массовые рабочие протесты. Ослабленное кремлевское руководство нашло себя вынужденным пойти на уступки. На место умершего незадолго до этого польского наместника Сталина, Болеслава Берута, был назначен освобожденный из тюрьмы бывший «правый уклонист» Владислав Гомулка. В октябре 1956 г. в соседней Венгрии развернулось еще более радикальное и обширное движение рабочего класса против тоталитарной бюрократии, вскоре подавленное советскими танками.
Вопросы задаёт польско-французский левый журналист K.S. Karol Kewes (1924—2014). Известный под псевдонимом Кароль, он родился в Польше, но большую часть жизни провёл во Франции. Его отец был купцом первой гильдии в Ростове-на-Дону. Купец с семьёй бежали в Польшу после Октябрьской революции и поселились в Лодзи. Кароль учился в католической школе, но потянулся к марксизму и коммунизму. Его левые убеждения толкнули его в 1939 еще подростком переехать в советскую зону оккупации. Как и многих других поляков буржуазного происхождения сталинисты депортировали его в Сибирь во время «советизации» восточной Польши. В 18 лет Кароль был призван в Красную армию, воевал, а в конце войны сумел бежать в Англию. Потом Кароль перебрался во Францию и стал французским журналистом левого толка, поклонником Кастро и Мао.
Исаак Дойчер.
Ещё больший интерес представляет рассказчик этой истории, Исаак Дойчер (1907—1967).
Дойчер юношей вступил в польскую компартию, стал редактором одной из подпольных газет КПП, но в июне 1932 г. был исключен из партии за протест против гибельной политики «Третьего периода». Он был одним из руководителей группы польских сторонников Левой Оппозиции в 1930-е годы. В начале Второй Мировой войны Дойчер бежал в Великобританию, стал историком и написал ряд выдающихся трудов, среди них, биографию Сталина в 1949 г. и трехтомную биографию Троцкого в 1954—1963 годах.
В 1938 году Дойчер был одним из двух делегатов от группы польских сторонников Международной Левой Оппозиции на учредительную конференцию в Париже. Выслушав доклад Троцкого «Переходная программа», призывающий к учреждению Четвертого Интернационала, Дойчер возразил докладчику и выступил против учреждения нового Интернационала. Дойчер указал на слабость и малочисленность троцкистского движения, его изоляцию и неспособность «перекричать» могучее сталинистское движение. Вскоре Дойчер вышел из партии. В Великобритании, став известным журналистом, Дойчер выступал в прессе как беспартийный, умеренный социалист, появлялся на радио, стал одним из известных «советологов» в 1950-е и 1960-е годы.
В послевоенных работах биографии и истории Дойчер мастерски описывает перипетии Октябрьской революции, реакционную роль Сталина и правящей бюрократии. Он высоко оценивает политический анализ Троцкого в 1920-е и 1930-е годы. Он правдиво описывает ошибки и преступления Сталина во внутренней и внешней политике: сплошную коллективизацию, безрассудно форсированные пятилетки, безумную политику «третьего периода», открывшую Гитлеру дорогу к власти, разрушительные последствия Чисток 1936—39 гг. и так далее. Книги и статьи Дойчера полезно читать и сегодня.
Фатальная ошибка Дойчера заключается в следующем. Он поверхностно оценил неустойчивый феномен сталинизма, как совершившийся и навеки решенный историей факт. Временный, переходный и противоречивый режим в СССР он принял за новую, устойчивую классовую формацию. Советский Союз и «социалистические» государства Дойчер оценил как перманентный факт и видел в них своеобразный путь к социализму. Исходя из этой оценки он положительно оценил роль Сталина. Не скрывая преступных деяний тирана, он все же в целом приписал ему позитивную роль в истории. В ставшем крылатым сравнении Сталина и Наполеона, Дойчер пишет: «Установлено как факт, что Сталин стоит в ряду великих революционных деспотов, таких как Кромвель, Робеспьер и Наполеон» (Stalin, Vintage Books, 1960, pp. 565-566).
Троцкий, напротив, видел в сталинистских государствах отклонение и реакционное отступление от марша рабочего класса к мировому социализму. Режим СССР — и других послевоенных сталинистских государств — он оценил как следствие неустойчивого равновесия между контрреволюционной бюрократией и империализмом. Из этого анализа вытекал призыв Троцкого провести в СССР политическую анти-бюрократическую революцию, восстановить советскую демократию и возобновить движение к настоящему социализму.
Дойчер до конца своей жизни оставался беспартийным левым обозревателем Советского Союза, Польши и других сталинистских государств. Его статьи и книги вдумчивы, интересны, полны информации, но в них нет и не может быть призыва к свержению бюрократического режима. Дойчер, таким образом, был предвестником паблоизма, то есть, ревизии марксизма (троцкизма) в сторону приспособления к сталинизму как к совершившемуся факту.
Несколько слов о междувоенной Польше.
Собранная из клочков Российской, Германской и Австро-Венгерской империй, Польша в 1919—1939 годах являлась неустойчивой и национально неоднородной страной. Согласно своему пацифизму и квакерским убеждениям американский президент Вильсон в январе 1918 г. объявил на весь мир о намерениях США начертать границы новых государств Европы согласно продвинутым демократическим и этнографическим принципам. Несмотря на высокие принципы и личное полугодовое присутствие Вильсона в Европе в 1919 г., границы Версальской Европы были начертаны кровью и железом по телам живых народов. Пограничные войны и проблемы границ продолжались в течение всего между-военного периода: Советско-Польская война 1919-1920 гг.; захват поляками литовского Вильно в октябре 1920 г.; перекройка Венгрии в договоре Трианон; Данциг и Восточная Пруссия и пр.
Согласно спорному цензу 1931 года польскоязычные католики составляли примерно две трети населения Польской республики. Вне споров тот факт, что помимо поляков в ней проживали миллионы евреев, украинцев и белорусов, десятки и сотни тысяч немцев, венгров, цыган, русских, литовцев и пр.
Промышленность Польши в течение второй половины XIX века и до 1914 г. развивалась как составная и более передовая часть российской империи. Условия послевоенной разрухи и всеобщего европейского спада особенно тяжело ударили по польской промышленности. Первая Мировая война, военная разруха и ужасные миграции миллионов беженцев совокупно отбросили хозяйство назад. Новые границы и политические переделы лишили Лодзь, Вильно, Гродно, Варшаву (до войны, часть России), Краков и Львов (до войны, часть Австро-Венгрии) и другие польские города их привычных хозяйственных связей. В 1926 году, проведя военный переворот и ослабив Сейм, Пилсудский фактически стал бонапартистским, полуфашистским диктатором Польши. В условиях экономического краха Пилсудский разжег великопольский национализм и шовинизм против национальных меньшинств и провел серию антидемократических и антиреспубликанских мер.
Главным оружием против Советов, Советской России и социализма в Польше — и других странах центральной Европы — был местный шовинизм: Великая Польша против Великой Литвы и Украины; Великая Венгрия против Чехо-Словакии, Румынии и других соседей, и т.д. Этот реваншизм тяготел к итальянскому фашизму, а с середины 1930-х годов стал главным союзником германского фашизма. При сталинском режиме СССР перестал привлекать надежды народов Восточной Европы, усилились пессимизм масс и атавистические силы местных фашизмов: венгерского, румынского, польского… Политика Сталина ввела в замешательство и изолировала местных рабочих активистов, подорвала привлекательность революционного марксизма.
Наконец, предварительное слово о печальных героях этой трагедии: руководителях польского коммунизма. Роза Люксембург и Лео Иогихес (Тышко) были зверски убиты германскими белогвардейцами в январе 1919 года. Юлиан Мархлевский умер своей смертью в 1925 году. Все остальные, буквально все руководство Польской компартии, её союзных федераций и секций (западно-украинской, западно-белорусской, еврейской и др.) были расстреляны Сталиным в застенках ГПУ.
Причины ошибки польской компартии в 1926 году.
Чтобы понять значение ошибок Коминтерна и КПП в середине 1920-х годов надо обратиться к главным работам Троцкого: «Новый курс» (декабрь 1923 г.), «Уроки Октября» (1924 г.), «Критика проекта программы Коминтерна», «Что же дальше?», «Кто есть кто в Коминтерне?» (1928 г.).
Когда, в 1923 году, тайный «триумвират» воспользовался болезнью Ленина, чтобы изолировать Троцкого и разрушить его огромный авторитет в ВКП и Коминтерне, три наиболее авторитетные компартии: германская, французская и польская, подняли голос протеста. Этот протест был тогда очень неудобным для заговорщиков в ЦК и председатель ИККИ Зиновьев начал активно искать предлоги для дисциплинирования непокорных Кремлю партий. К 1926 году идейное разоружение руководящих кадров во всех компартиях зашло очень далеко. Сначала Зиновьев, потом Сталин и Бухарин, под предлогом «большевизации» и «революционной дисциплины» вытесняли из руководства компартий самостоятельно мыслящих революционеров, выдвигали и награждали послушных партийных чиновников. Вот три примера: вытеснение Карла Радека из руководства в Европе и его перевод на пост ректора Комакадемии стран Востока; выдвижение Бела Куна, которого Ленин терпеть не мог; посылка авантюриста Пеппера в США, где он интриговал и разрушал американский коммунизм.
В документе, адресованном VI-му Конгрессу Коминтерна Троцкий пишет:
«Идейная двойственность является неизбежным последствием полной бюрократизации режима. Руководящие элементы коммунистических партий в Германии, во Франции, в Англии, в Америке, в Польше и пр. не раз совершали за эти годы вполне безнаказанно чудовищные оппортунистические шаги, прикрываясь покровительственной окраской во внутренних вопросах ВКП» («Что же дальше?»).
В мае 1928 года, уже после полицейского разгрома Левой Оппозиции в ВКП и высылки сотен руководящих оппозиционеров в далекие уголки Советского Союза, Троцкий писал друзьям из Алма-Аты:
«Сосновский совершенно правильно подходит ко всем этим вопросам [тактики, программы] под углом зрения партийного режима. Этого же самого неутомимо требует Раковский, И это сейчас единственно правильный и надежный критерий. Не потому, что партийный режим есть самостоятельный источник всех остальных явления и процессов. Нет, партийный режим в огромной мере является производным фактором; но он имеет в то же время огромное — в некоторые моменты, решающее — самостоятельное значение. И здесь диалектика, как везде. А так как партия есть единственный инструмент нашего сознательного воздействия на общественный процесс, то критерием серьезности и глубины поворота является для нас прежде всего преломление этого поворота внутри партии».
Уже ряд лет в ВКП и Коминтерне был установлен гибельный бюрократический режим. «Триумвират» Зиновьева, Каменева и Сталина, потом — союз Сталина и правых — подменял партию аппаратом, вытеснял диссидентов и непокорных и подменял их чиновниками. В партиях Коминтерна был установлен режим: «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак». Этот режим исключал сознательные революционные действия в любой ситуации и вел партии от одной ошибки, к другой, еще более грубой и гибельной для революции.
В процессе нападения на авторитет Троцкого Зиновьев и Сталин опошляли и подрывали программу мировой революции. Это выяснилось в ходе так называемой «литературной дискуссии» в 1924 году. Троцкому приписали «непонимание крестьянства» и «перепрыгивание через этапы революции». Под этим Зиновьев и Сталин именовали отход от программы «перманентной революции», которую Ленин де-факто перенял у Троцкого в апреле 1917 года, и которая служила компасом-путеводителем для РКП и Коминтерна до этого времени.
Потеряв этот компас, польские коммунисты, а также входившие в КПП автономные группы западно-украинских, западно-белорусских и еврейских коммунистов увлеклись второстепенными вопросами: полонизация или культурная автономия; степень феодальных пережитков в стране; отношение к крестьянству и мелко-буржуазным крестьянским партиям. Гибель в январе 1919 г. наиболее авторитетных польских революционных марксистов, Розы Люксембург и Лео Иогишеса (Тышко) оставила в руководстве польского коммунизма болезненный вакуум, который в условиях бюрократизации КПП лишь разрастался и метастазировал.
В 1925—26 гг. каждый активист КПП оглядывался наверх: что скажет Москва и Коминтерн по поводу того или другого решения варшавского ЦК? Кого поддержит ИККИ: Варского или Валецкого? Итак, первым больным вопросом был бюрократический режим в Коминтерне, который проникал и в глубь его партий, включая Компартию Польши.
Вторым больным вопросом было отношение к ошибке Ленина и ЦК РКП во время Советско-Польской войны 1920 года. В августе 1920 г. ЦК РКП решил продолжить наступление Красной Армии вглубь Польши. Само решение наступать на Варшаву было тактической ошибкой, основанной на недооценке национальных чуств польского крестьянства и пролетариата. Польские коммунисты во время войны выступили за Красную Армию и советскую власть, и КПП продолжала в 1920-е годы вести пропаганду в пользу Советов. Это правильно: Советская власть должна и может обеспечить настоящее самоопределение и народовластие, в России, на Украине, в Польше или Германии.
Дело в другом. При отсутствии или дезавуации лозунга за Социалистические Соединенные Штаты Европы, при бюрократическом самохвальстве в Москве, в условиях задержки европейской революции, польский коммунизм в середине 1920-х годов терял свою притягательную силу, уступал инициативу классовым врагам: буржуазиии и мелкой буржуазии. Шовинисты Народовой (Народно-Демократическая) партии, Пилсудский, меньшевики из ППС, различные крестьянские партии под руководством сельской буржуазии все указывали на поход Красной Армии на Варшаву в августе 1920 г. как на доказательство лживых претензий коммунизма. Народовцы и Пилсудский говорили: Красная Армия продолжает великодержавную политику царизма.
Марксизм и крестьянство.
Третьим больным вопросом становилось отношение коммунистов к крестьянству. Ленин и Троцкий в революцию 1905 года и 1917 года ставили перед социал-демократией и пролетариатом задачу отвоевать у буржуазии политическое влияние на крестьянство. Но Ленин, до апреля 1917 года выражал это в неясной и неудачной формуле «диктатура пролетариата и крестьянства». Троцкий уже в 1905 году правильно поставил перед пролетариатом цель вести и руководить крестьянской революцией. Он выразил эту цель в теории «перманентной революции», принятой на практике Лениным и большевиками весной 1917 года, но, как впоследствии выяснилось, недостаточно усвоенной теоретически.
Молодой советский режим в первые годы, в обстановке жестокой Гражданской войны и интервенции сделал ряд зигзагов, допустил ряд ошибок в отношении к крестьянству: анархическое разорение дворянских усадеб, «военный коммунизм», комбеды и продразверстка. Болезненные отношения между коммунизмом и крестьянством выразились в разных формах: трения с казачеством, влияние Центральной Рады и слабость Советов на Украине, трения между русскими переселенцами и народами Центральной Азии и Прикаспия, ряд крестьянских восстаний в 1920 году, Кронштадский мятеж в марте 1921 г.
Политика НЭПа, принятая единогласно на Х съезде РКП в марте 1921 г. — Троцкий предложил аналогичный поворот годом раньше в феврале 1920 г., но Ленин и ЦК отклонили это предложение — являлась более серьезной и длительной уступкой мелкобуржуазной и крестьянской стихии в Советской России. Эта вынужденная мера помогла исцелить наиболее глубокие раны в экономике Советских республик и открыла период лечения и восстановления всего хозяйства. Но отношения между мелкой буржуазией — крестьянство, кустарные ремесленники, мелкие торговцы — и пролетариатом не могли наладиться, и, в условиях отсталости и изоляции Советского Союза, сохраняли напряжение и неравновесие.
Безжизненным сектантством было бы обвинять большевиков в ошибках и зигзагах. Не их вина, а их беда, что царизм и Мировая война передали Ленину и Троцкому наследие российской отсталости и военной разрухи, что империализм послал четырнадцать армий в Россию, чтобы свергнуть молодое и слабое Советское государство.
Более серьезным отклонением от политики революционного марксизма было прагматичное приспособление Коминтерна к появлению в ряде стран Восточной Европы и в США более или менее крупных крестьянских партий. Появление таких партий было последствием Октябрьской революции в России. Крупная промышленно-финансовая или клерикальная буржуазия потеряла авторитет в массах. Идеи социализма, наоборот, набрали вес. После четырех с лишним лет кровавой Мировой войны, разрушившей государства и хозяйства Восточной Европы, пример большевизма был заразительным. Поскольку молодые коммунистические партии были неопытны или изолированы в подполье, постольку в новых республиках Прибалтики, в Польше, Болгарии, Югославии выросли крупные мелкобуржуазные партии, в которых были влиятельные левые фланги.
Марксисты оценивают крестьянство как мелкую буржуазию и отрицают за ним независимую политическую роль (мы отсылаем читателя к замечательной статье Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции и в Германии», 1894 г.). Трудовое крестьянство может пойти за пролетариатом, но также может, благодаря своему узкому горизонту и предрассудкам, стать опорой фашизма или старомодного клерикализма. Ленин учил, что российское крестьянство пойдет либо за крупной буржуазией, либо за пролетариатом. Но теперь, в борьбе против Троцкого и его авторитета, руководство ВКП и Коминтерна сползало к старо-большевистской точке зрения — «диктатура пролетариата и крестьянства», — чтобы затем попятиться еще дальше назад, к меньшевистской концепции двух ступеней революции: сначала буржуазно-демократическая революция, в которой пролетариат играет подчиненную роль; а в отдаленном будущем — социалистическая революция.
В октябре 1923 года под эгидой Коминтерна был учрежден так называемый «Крестьянский Интернационал». Идея международного объединения крестьян была выдвинута польским левым активистом, Томашем Домбалом (Tomasz Dąbal), известным также за то, что в ноябре 1918 г. он вместе с католическим ксендзом Евгением Оконом (Eugeniusz Okon) основал в польском городке Тарнобржег кратковременную квази-советскую республику. Хотя Домбал к этому времени (1923 г.) ушел от левой эсеровщины и вступил в польскую компартию, идея крестьянского Интернационала опиралась на поверхностный подход к развитию революционного руководства. В 1930 г. Троцкий вспоминал:
«Что слышно с Крестинтерном? Он был создан эпигонами специально для того, чтобы показать, как ведут политику люди правильно оценивающие крестьянство. Мы считали с самого начала, что вся затея мертва, а поскольку не мертва — реакционна. На VI конгрессе Бухарин извинялся по поводу того, что не может ничего (т.-е. ничего хорошего) сообщить о Крестинтерне. Он приглашал заняться тем, чтоб «помочь Крестинтерну превратиться в подлинную живую организацию». На XVI съезде ВКП Молотов в своем докладе не обмолвился о Крестинтерне ни единым словом, точно его и нет на свете. Значит так и не удалось превратить его в «живую организацию»? А ведь это был один из крупнейших плодов антитроцкизма!
«Крестьянство есть наименее интернациональный из всех классов буржуазного общества. Крестьянский Интернационал есть внутреннее противоречие, не диалектическое, а бюрократическое. Самостоятельное интернациональное объединение крестьянства, помимо национальных секций Коминтерна, есть — повторяем снова — либо мертвая канцелярская выдумка, либо оранжерея буржуазно-демократического карьеризма под защитным покровом. Крестинтерн надо открыто ликвидировать, сделав все надлежащие выводы». (См. «Бюллетень Оппозиции» № 15).
Политика «единого фронта» была принята под руководством Ленина и Троцкого на Третьем Конгрессе Коминтерна в 1921 году, чтобы бороться с «детской болезнью левизны». Но с болезнью Ленина и оттеснением Троцкого от руководства, Зиновьев злоупотребил своей позицией председателя ИККИ и прагматично проводил — или, наоборот, дезавуировал и не проводил — лозунги Коминтерна в зависимости от своих фракционных интересов. Формула «единого фронта» была использована для благословения политического союза коммунистической и крестьянской партии в той или другой стране. Крестинтерн стал утрированной формой такого бюрократического уродства: представители разных крестьянских партий собирались на московские тусовки для обмена любезностями и ни к чему не обязывающими обещаниями солидарности.
Наиболее бедственный результат анти-марксистского отношения к крестьянству получился в Китае в 1927 году (См. нашу статью-введение к работам Троцкого за 1927 год). Но политика приспособления к отсталому крестьянству и отход от цельной концепции «перманентной революции» привела к поражениям еще раньше: в Болгарии, во время путча Цанкова в 1923 г.; в Эстонии, где Зиновьев попытался отыграться за свое бездействие в Германии в октябре 1923 года авантюристским «активизмом» в декабре 1924 г.
После 1923 года, — когда руководство КПП и двух других компартий осудило фракционное нападение Зиновьева-Сталина на Троцкого — центристское руководство в Москве повело ряд интриг, которые расстроили и заморочили Центральные Комитеты ряда компартий.
После провала революционной ситуации в Германии осенью 1923 года финансиры Соединенных Штатов решили не ждать следующей такой паники, и организовали план кредитования Германии, чтобы та, в свою очередь, продолжала выплачивать репарации Великобритании и Франции, которые затем вносили платежи, чтоб погасить свои военные долги перед США. Деньги шли большим кругом: из Вашингтона и Нью-Йорка в Германию, потом из Германии в Лондон и Париж, затем обратно в Нью-Йорк. Хозяйственная ситуация в Европе несколько стабилизировалась; политическая ситуация в Германии тоже стала несколько более спокойной и консервативной. Все это называлось Dawes Plan, по имени Чарльза Дауэса (Charles G. Dawes)
Польская буржуазия от Плана Дауэса прямо ничего не получила, но германская революция несколько отодвинулась и предоставила отсрочку также Варшаве.
А теперь, даем слово активному свидетелю движения «моральной санации» (оздоровления) Йозефа Пилсудского и реакции на это «оздоровление» со стороны польской компартии в мае 1926 года.
В приложении к свидетельству Дойчера мы предлагаем читателю стенограмму выступления Льва Троцкого в комиссии ИККИ 2 июля 1926 г., разбиравшей эту ошибку КПП. Текст выступления Троцкого был опубликован в «Бюллетене Оппозиции» № 29-30 за сентябрь 1932 г.
— Искра-Research.
Трагедия Польской компартии
Кароль: Не сможете ли вы пролить свет на некоторые основные проблемы истории Польской Коммунистической партии, которые я в настоящее время изучаю? Я особенно заинтересован в рассмотрении идеологических и политических течений внутри партии, условий появления различных её фракций, политики партии во время двух ключевых декад между войнами и наконец трагической кончины партии.
Дойчер: Начнем с нескольких общих замечаний и одного личного. Когда вы спрашиваете меня об истории Польской компартии, вы несомненно знаете о моей личной точке зрения. В июне 1957 года исполнится ровно двадцать пять лет со времени моего исключения из партии за оппозиционность. Я не буду здесь анализировать причины моего исключения: их в свое время изложили достаточно ясно, но тенденциозно (в официальных органах КПП — ФК), и с течением времени предвзятость этих суждений становиться еще более обличительной в документах и заявлениях партийного руководства о «деле Краковского» (имя Краковский, было одним из моих тогдашних партийных псевдонимов). Начиная с 1932 года и до роспуска партии я был с КПП в остром конфликте. Несмотря на конфликт, во время роспуска партии и в ходе всех обвинений против её вождей я осуждал эти действия как беспримерное преступление против рабочего класса Польши и всего мира. Та оппозиционная группа, к которой я принадлежал, являлась единственной группой членов или бывших членов КПП, осудивших это преступление и резко протестовавших против него.
Нет никакого сомнения, что Польская компартия имела величайшее влияние на меня и на мое интеллектуальное и политическое развитие. Я никогда не сомневался, что она будет «реабилитирована» — хотя даже слово «реабилитация» здесь не вполне уместно. Коммунистическая партия Польши (КПП) была великой и героической партией, единственной партией в Польше, представлявшей интересы пролетарской революции, великую традицию марксизма, настоящий и жизненный интернационализм. В этом отношении с ней не сравнится никакая другая польская партия. К сожалению, история партии до сего дня остается тайной за семью печатями. Самые последние публикации на эту тему, которые я смог найти, представляют собой жалкую картину. Они отмечают реабилитацию партии, но ничего о ней не говорят. Нет никакой попытки проследить и описать великие периоды в существовании партии — её взлёты и падение. Поражает тенденция — последствие многолетних привычек — удовлетворяться клише и общими фразами, напоминающими христианское «Житие святых». Единственная партия в Польше, заслуживающая называться пролетарской и марксистской, заслужила того, чтобы её историю изучали серьезно, правдиво и вдумчиво. Польская компартия была одно время погребена под грудами возмутительной клеветы. Не надо её хоронить снова, на этот раз в золоченых ризах и в сопровождении фимиама бессмысленных легенд.
Я должен сделать замечание общего методологического характера. Чтобы понять историю КПП, каждый важный этап надо оценить с двух точек зрения: с точки зрения классовой борьбы внутри Польши и с точки зрения тех процессов, которые происходили внутри Коммунистического Интернационала и Советского Союза. Эти две группы факторов постоянно взаимодействовали. Исследователь, ограничивающий свое изучение лишь одной их этих точек зрения, никогда не сможет разобраться в сути дела. С ходом времени процессы, происходящие внутри Советского Союза, играли все большую и растущую роль и ложились все более тяжелым бременем на судьбу польской компартии. Поэтому, чтобы ясно видеть политику партии и идеологические течения внутри неё, мы должны знать о классовых отношениях внутри Польши и следить за процессом развития Русской революции.
Кароль: Какие были главные составные части Польской компартии во время её учреждения, то есть в конце 1918 и в начале 1919 года?
Дойчер: Главные различия являлись следствием того факта, что Польская компартия была учреждена путем слияния двух партий: Социал-Демократической партии Королевства Польского и Литовского (партия Розы Люксембург, СДПКиЛ) и Польской Левой Социалистической партии (PPS Lewica). Каждая из этих партий вышла из своей собственной традиции. Социал-демократическая партия выросла в оппозиции против национализма и патриотизма польской шляхты, оглядывавшихся на повстанческую романтику XIX века. СДПКиЛ главный акцент делала на пролетарском интернационализме. Левая Социалистическая партия сначала продолжала блюсти свои традиции патриотического повстанчества, и восстановление независимости Польши стояло в центре её программы, но потом она приблизилась к интернационалистскому отношению партии Люксембург. Левая Социалистическая партия была близка к левым меньшевикам; она приблизилась к большевизму лишь под влиянием Октябрьской революции. СДПКиЛ приняла — как показывают резолюции её Шестого съезда — настроения, очень близкие к Троцкому и оставалась независимой и от меньшевиков, и от большевиков. Во время Русской революции партия Люксембург — наподобие Троцкого — называла себя большевистской. Надо отметить, что в партии были различия между сторонниками официального руководства (Роза Люксембург, Мархлевский, Йогишес) и так называемыми «раскольниками» (Дзержинский, Радек, Уншлихт). Но это было разногласием, а не настоящим расколом. «Раскольники» выражали некоторую оппозиционность к централизму Исполнительного Комитета, действовавшего за границей. Кроме того, они были несколько ближе к большевикам. В Польской компартии с самого начала преобладала традиция СДПКиЛ. Все же не надо преувеличивать значение этих различий. На деле они были смягчены и во многом преодолены настоящим единством новой партии и убеждением её членов, что старые разногласия отошли в прошлое. Ряды партии сплотились еще теснее сознанием их общей непримиримой борьбы с националистической и реформистской Польшей, с Польшей помещиков и мелкой шляхты.
Кароль: Не правда ли, что компартия начала свою политическую жизнь в независимой Польше отягощенная некоторым моральным затруднением, связанным с её традицией люксембургианства, которое принципиально было против борьбы за национальную независимость?
Дойчер: В этом утверждении есть крупица правды, но и много преувеличения. Доказательство можно увидеть в относительной силе различных партий в Советах Рабочих Депутатов, которые были организованы в конце 1918 года в Варшаве, в Лодзи, в горняцких районах Дабровы. В Варшаве силы коммунистической партии и ППС были примерно равны, и, если память мне не изменяет, еврейский Бунд давал перевес той или другой стороне. В Лодзи расстановка сил была похожей, хотя там у компартии был некоторый перевес. А в шахтерских районах Дабровы компартия была гораздо сильнее, чем социалисты, и с этим связан эпизод Красной республики в Даброве. Можно сказать, что накануне независимости влияние компартии в рабочем классе важнейших промышленных центров было никак не меньшим, чем авторитет реформистской и «патриотической» ППС — оно было, вероятно, большим.
Ситуация была сложной. С одной стороны, события в некоторой степени опровергли предположения Розы Люксембург и её товарищей, на основании которых они отвергли «борьбу за национальную независимость». С другой стороны, Люксембург и её последователи были единственными, кто верил в революцию в России, Германии и Австрии, в трех империях, поделивших Польшу, вместо того, чтобы надеяться на бесконечное повторение польских восстаний XIX века. Сторонники Пилсудского — а Польская социалистическая партия в 1918 году почти ничем не отличалась от Пилсудского — прежде всего объявляли о своем неверии в возможность революции в этих империях. События опровергли этот скептицизм и неверие. Итак, несмотря на ожидания Розы Люксембург Польша восстановила свою независимость; но, несмотря на ожидания её оппонентов, Польша обрела независимость благодаря революциям в России и Германии. История оказалась хитрей, чем все партии, и поэтому я не согласен с тем, что по сравнению с другими партиями компартия вошла в эпоху независимости, отягощенная каким-то «стыдом». Кроме того, когда сторонники Люксембург гнили в царских тюрьмах и в ссылке, польские буржуазные партии (особенно «национальные демократы», отвергавшие любое движение за независимость, но также и Пилсудский и социалистические «патриоты») прислуживали той или другой правящей державе и сотрудничали с ними. После падения этих держав прежнее холуйство не остановило буржуазные партии от их лицемерных ультра-националистических настроений и от взятия власти.
Пилсудский, Йозеф (1867—1935) — один из главных руководителей организованной в 1893 г. польской социалистической партии (ППС). Сын богатого помещика Виленской губернии. В революционное движение Пилсудский вступил под влиянием польского восстания 1863 г. Жестокая расправа Муравьева с восставшими поляками возбудила в нем ненависть против русского царского правительства. Еще юношей, будучи на гимназической скамье, Пилсудский был арестован и после долгого заключения сослан в Сибирь по ложному обвинению в покушении на убийство царя. По возвращении из ссылки в Вильно, он вступает в ППС, где вскоре выдвигается на руководящие посты в партии. В этот же период им была поставлена нелегальная типография, в которой печатался центральный орган ППС "Работник". Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Пилсудский направился в Токио искать содействия у японского правительства для борьбы с царской Россией. Однако, ни польское дворянство, ни буржуазия не желали отделения от России. В 1906 г., когда произошел раскол ППС на "левицу" и "правицу", Пилсудский возглавил правую, националистическую часть партии. С наступлением мировой войны Пилсудский организовал польский легион и сражался на стороне центральных империй. Убедившись вскоре, что Германия вовсе не ставила себе целью объединение Польши, Пилсудский стал организовывать нелегальные отряды для борьбы с немцами, за что был арестован и посажен в крепость. В 1918 г., с образованием самостоятельного польского государства, Пилсудский, поддержанный мелкой буржуазией, вооруженной рукой захватывает власть и вплоть до 1923 г. стоит во главе польского государства, занимая пост президента и главнокомандующего польской армией. Во время господства Пилсудского Польша становится вассалом французского империализма. Пилсудский фактически поддерживал и руководил контр-революционными выступлениями Савинкова, Булак-Балаховича и др. против Советской России и был одним из вдохновителей русско-польской войны 1920 г. В 1923 г., в связи с укреплением правых (фашистских) элементов внутри страны, Пилсудский провалился на выборах и ушел в отставку, получив чин маршала. Сойдя с официальной политической сцены, он продолжает, однако, пользоваться широким влиянием в кругах мелкой и средней польской буржуазии. В начале 1926 г. Пилсудский вновь выдвигается военной кликой на пост начальника генерального штаба польской армии и вокруг его кандидатуры разгораются жестокие политические споры. /Т. 13/
Кароль: Продолжались ли внутри партии прошлые разногласия о независимости Польши?
Дойчер: Только вначале, и в очень малой степени; потом они исчезли совсем. Партия занималась другими вопросами: своим местом в конфигурации общественных сил; разработкой политической линии; и, конечно, проблемами Русской революции и перспективами мировой революции.
Кароль: А вопрос о бойкоте Учредительного Собрания в 1919 году, не вызвал ли он новый раскол внутри партии?
Дойчер: Если я не ошибаюсь, этот вопрос не стал поводом даже для дискуссии. В этом вопросе, Польская и Германская компартии заняли одно и то же отношение. Обе считали, что выборы в Учредительные Собрания являлись уверткой, направленной на свертывание Советов Рабочих Депутатов. Польский Сейм и Веймарское Учредительное Собрание рассматривались в качестве основы буржуазной парламентской республики, созданной на развалинах рабочих советов — потенциальных органов социалистической революции. Несомненно, обе партии совершили ошибку, объявляя бойкот буржуазного парламента, и в обоих случаях эта ошибка была результатом ультра-левых настроений этого периода.
Кароль: Как реагировала компартия на Польско-Советскую войну 1920 года?
Дойчер: Польская компартия относилась к этой войне — и вполне правильно — как к войне классов-собственников (или главенствующих элементов этих классов) против Русской революции и составной части интервенции капиталистических стран в России. Партия считала себя частью Русской революции и была обязана защищать её. Положение осложнилось после отступления Пилсудского из Киева, во время наступления Красной армии на Варшаву. Введение режима осадного положения и военных трибуналов сократило до минимума возможности открытых действий; и лидеры, и рядовые члены партии могли лишь с большим трудом высказывать свои мнения и выражать различные оттенки настроений в партии. Все же я хотел бы обратить ваше внимание на характерные различия, появившиеся между многочисленными группами польских коммунистов, проживающих в Москве. Когда встал вопрос о походе на Варшаву, эти группы коммунистов парадоксальным образом разделились во мнениях. С одной стороны, старые «люксембургианцы», «противники независимости» — Радек и Мархлевский — сделали все возможное, чтобы убедить Ленина и русское Политбюро не двигать Красную армию в Польшу, предложить полякам мир как только Красная армия выгонит армию Пилсудского с Украины. (В Политбюро им удалось убедить только Троцкого, тогдашнего наркома обороны.) С другой стороны, старые сторонники независимости — бывшие вожди ППС-Левицы, такие как Феликс Кон и Лапинский, — стояли за поход Красной армии на Варшаву; они утверждали, что польский рабочий класс находится в состоянии революционного горения, что он будет приветствовать Красную армию как армию-освободительницу.
Приведу еще один пример: В 1920 году орган Германской компартии Rote Fahne опубликовал протест против похода на Варшаву, подписанный Домским, одним из наиболее известных членов Польского ЦК и «люксембургианцем». Между прочим, по тогдашним нормам партийного режима, право члена ЦК издавать такой протест считалось обычным и само собой разумеющимся. Домский остался в членах ЦК и играл ведущую роль в партии еще ряд лет, точнее, до 1925 года.
Вы спрашивали, не являлось ли наследие Люксембург морально постыдным для польского коммунизма. У меня нет никаких намерений защищать пост фактум идеи Розы Люксембург о национальной независимости. Я просто скажу, что поход Красной армии на Варшаву принес польской компартии гораздо больше стыда, чем все настоящие или выдуманные ошибки Розы Люксембург вместе взятые; её буржуазные враги и Сталин (он, как всегда, злоупотреблял цитатами из Ленина) много делали из них шума. Но ошибка Ленина в 1920 году — давайте называть вещи своими именами, — ошибка Ленина стала настоящей трагедией для КПП, потому что она фактически толкнула польские пролетарские массы в сторону антисоветчины и антикоммунизма.
Кароль: Но ведь верно, что партия быстро восстановила свое влияние после 1920 года?
Дойчер: Да, в некоторой степени. И все-таки поход на Варшаву привел к долгосрочным последствиям: он подорвал веру польских трудящихся масс в Русскую революцию. Несмотря на это, после 1920-го года рабочие сравнительно быстро отрезвели от своего временного опьянения по поводу польской независимости и от иллюзий, которые она породила. В сравнительно свободной атмосфере послевоенных месяцев рабочий класс смог видеть события более трезво. Стало известно, что правительство Ленина сделало все возможное, чтобы предотвратить войну между Польшей и Россией, что если бы Пилсудский не бросил польские армии на Киев, то и не произошло бы советского похода на Варшаву. Польский пролетариат понял, что в 1920 году Пилсудский боролся не за независимость Польши, а, скорее, за украинские поместья польских панов и за свою собственную славу и величие. Начальные годы этой декады засвидетельствовали новый подъём во влиянии Польской компартии; её влияние выросло в 1923 году, особенно в ноябре, и дошло до высшей точки во время всеобщей забастовки и восстания рабочих в Кракове.
Кароль: Это был период руководства так называемых «троих В», не так ли?
Дойчер: Да. Один из них, Варский, был старым товарищем Люксембург; двое других, Валецкий и Вера (Костшева), вышли из ППС-Левицы. Несмотря на это, они создали объединенное руководство, доказавшее, что старые расколы в партии преодолены и сошли на нет. Но здесь мы подходим к особенно критическому времени, когда развитие классовой борьбы в Польше снова усложнилось и в некоторой степени было искажено влиянием событий в Советском Союзе. В течение долгих лет я лично думал, что в Польше, так же как и в Германии, 1923 год был годом «пропущенной» революции. Теперь, 35 лет спустя, я не настолько уверен, что исторические факты подтверждают такую резкую оценку. Так или иначе, мы в то время имели многие из элементов революционной ситуации: всеобщая стачка, восстание рабочих в Кракове, переход солдат на сторону рабочего класса, и в целом страна находилась в состоянии глубокого брожения. Казалось, что единственным недостающим фактором было отсутствие инициативы со стороны революционной партии, которая повела бы революцию к победе. Польская компартия не показала этой инициативы. Согласно резолюциям Коминтерна, партия тогда вела политику единого фронта с социалистами. В течение некоторого времени эта политика была весьма успешной: партия расширила свое влияние и внесла в классовую борьбу больше энергии. Но, в то же время, партийное руководство упустило политическую инициативу, которая перешла в руки социалистов, а в ключевые дни в ноябре это привело к пагубным последствиям. Рядовые партийцы чувствовали, что партия пропустила и не использовала революционную ситуацию, и они отреагировали с некоторой злобой против «оппортунизма» и отсутствия революционной инициативы со стороны «троих В».
Как я уже говорил, ситуация стала гораздо сложней из-за событий в СССР. Борьба между так называемым «триумвиратом» (Сталин, Зиновьев и Каменев) и Троцким вышла тогда наружу. И с самого начала она приняла невиданный в нашем движении злобный характер. Европейские компартии были в замешательстве, ведь до сих пор Троцкий, наряду с Лениным, был важнейшим вдохновителем и величайшим авторитетом в Интернационале. Осенью 1923 года Центральные Комитеты польской, французской и германской компартий в той или другой форме дали знать ЦК советской партии о своем протесте против жестоких форм нападок на Троцкого. Участники этих протестов не намеревались поддерживать тот или иной аспект политики Троцкого. Они просто предупреждали советское руководство о вреде, который наносила коммунистическому движению эта кампания против Троцкого, и призывали ВКП разрешить спорные вопросы по-коммунистически, по-товарищески. Этот инцидент отбросил длинную тень. Сталин никогда не забыл и не простил этот протест. Зиновьев, бывший тогда Председателем ИККИ, рассматривал протест как вотум недоверия лично ему. Компартии Польши, Франции и Германии были немедленно втянуты во внутренний советский конфликт. Руководство Интернационала — иначе говоря, Зиновьев и Сталин — сместили с постов главных руководителей этих трех партий, которые осмелились «защищать Троцкого». Был найден предлог, ошибки этих вождей, «троих В» в ноябре 1923 года; их исключили за «оппортунизм, правый уклон, неспособность использовать революционную ситуацию».
Кароль: Не следует ли из вашего изложения событий, что критики «троих В» были правы?
Дойчер: Даже если они были правы, это не дает руководству Интернационала в Москве право так резко вмешиваться во внутренние дела польской партии. Я должен добавить, что руководство германской и французской КП было заменено такими же способами. Во всех трех партиях смещения произошли в результате приказов сверху, а не решений членов партий согласно принципам внутренней демократии. Это была первая опасная атака на автономию компартии, первый акт того, что потом было названо «сталинизацией», хотя в то время она делалась не только Сталиным, но и Зиновьевым. Оба демагогически злоупотребили чувствами разочарования, распространенными среди рядовых членов польской и германской компартий. Можно понять это разочарование, и оно было резко направлено против руководства «троих В» в Польше и Брандлера в Германии. Вполне возможно, что если бы этим партиям позволили решать самим за себя, то они сами заменили бы это руководство. И все же, даже более важным, чем замена руководства сама по себе, был метод этой замены: он открывал путь для дальнейшей бессовестной манипуляции Сталиным руководством и политикой КПП, вмешательства, которое в конце концов привело к уничтожению партии.
Кароль: Как реагировала партия на этот первый акт намеренного вмешательства?
Дойчер: К сожалению, пассивно. Многие члены были более или менее за удаление «троих В» от руководства. Но даже те, кто сомневались, не возражали против него. Операция проходила в мягкой форме по сравнению с исключениями, чистками и насильственными покаяниями, которые пришли позднее. Сталинизм еще только зарождался, и он не мог еще обнажить свои клыки. Нападки на уходивших вождей проводились в сравнительно мягких тонах и формах — и это способствовало их принятию партией. Но решающим был психологический настрой партии — её ошибочное понимание солидарности с Русской революцией, её вера в невозможность какого-либо конфликта с Москвой, какой бы ценой этот конфликт ни избегался. Моральный авторитет советской партии, единственной партии, которая привела пролетарскую революцию к победе, был настолько велик, что польские коммунисты принимали решения Москвы даже тогда, когда Москва злоупотребляла своим революционным авторитетом. Сталинизм представлял собой постоянную цепь таких злоупотреблений, систематическую эксплуатацию морального кредита революции для целей, которые часто ничего общего с интересами коммунизма не имели, а служили только консолидации бюрократического режима в СССР.
В 1923-24 гг. Сталину было необходимо нападать на троцкизм во всем Интернационале. Варский и Костшева пытались застраховать свое собственное положение в партии путем дезавуации и отказа от своего собственного протеста в защиту Троцкого. Их можно понять. В Москве большинство в Политбюро и Центральном Комитете выступили против Троцкого. Ввиду этого, Варский и Костшева решили, что они не могут поддерживать меньшинство в советской партии и таким образом подвергать себя обвинениям во вмешательстве во внутренние дела ВКП(б). Но это не защитило польскую партию от советского вмешательства. Итак, хотя «трое В» симпатизировали троцкистской оппозиции, публично они поддержали Сталина и Зиновьева. Они потом дорого поплатились за эту временную слабость.
Кароль: Как изменилась политика партии после 1923 года?
Дойчер: К руководству пришли так называемые «левые»: Домский, София Уншлихт и Ленский. В Интернационале в целом и в польской партии в частности новая политика представляла собой резкий разрыв с ориентацией предшествующего периода. Фактически, это было время «ультралевой» политики. Если в 1923 году партия не проявила достаточной революционной энергии, то её политика в 1924 и 1925 годах была отмечена ложным радикализмом. Это было тем более вредно, что после кризиса в ноябре 1923 года объективные возможности революционных действий уменьшились. В этот период польская коммунистическая партия полностью отказалась от тактики единого фронта и тратила свои усилия в бесполезных авантюрах. Результат? Она потеряла влияние и отрезала себя от рабочих масс.
Стоит напомнить, что в начале 1924 года на местных выборах Польская коммунистическая партия была все еще сильнее Социалистической партии. Этот успех, однако, был лишь запаздывающим отголоском радикализации масс, имевшей место в 1923 году, и сам по себе не предвещал возникновения новой революционной волны. В следующий год влияние Коммунистической партии резко сократилось. Партия не смогла провести какие-либо массовые мероприятия. Это происходило не только в Польше. Такие же процессы наблюдались во всех коммунистических партиях Европы — все они, по сути, проводили ту же ультралевую политику с аналогичными результатами. Тогда проходил Пятый Конгресс Коминтерна; его называли «Конгрессом большевизации», но на самом деле это был «Конгресс сталинизации». Отныне все партии «стригли под бокс»; все следовали одной и той же «генеральной линии»; все прибегали к тем же самым тактическим трюкам; все продвигали те же самые лозунги, не принимая во внимание различия в классовых отношениях разных стран, культурном уровне, форме классовой борьбы и т. д. Движение вошло в стадию бюрократического единообразия. Польская секция страдала от этого еще более болезненно, чем другие европейские партии, ведь её революционная традиция была глубже и шире, и она действовала в условиях подполья. КПП постоянно аппелировала к духу революционного самопожертвования и к героизму своих членов, и эти обращения всегда находили отклик. Но бюрократическое однообразие несовместимо с революционным энтузиазмом — одно убивает другой.
Кароль: Тем не менее в конце 1925 года Варский, Валецкий и Костшева вернулись к руководству партии, не так ли?
Дойчер: Да. Ультралевая политика была быстро дискредитирована в глазах партии, а методы «троих В» почти автоматически оправданы. Что бы ни говорили против Варского и Костшевой, они тонко чувствовали настроения рабочего класса, они умели укреплять и расширять связь между партией и массами. Периоды, когда они возглавляли партию, были в целом периодами, когда партия расширяла свою массовую деятельность, хотя — как бы мне лучше выразиться — этим действиям не хватало революционного аспекта. И все же возвращение Варского и Костшевой к руководству Польской Коммунистической партии было больше связано с тем, что тогда происходило в России, чем с изменением климата в польской партии.
В России сложилась новая политическая ситуация. Триумвират распался. Зиновьев и Каменев повернулись против Сталина, и вскоре присоединились к Троцкому. Сталин сформировал блок с Бухариным и Рыковым и следовал так называемой «правой линии» в советской партии и в Интернационале. То, что называлось «польским правым крылом» — эти «трое В» — обернулось им на пользу, поскольку они оказали поддержку линии Сталина и Бухарина. С другой стороны, часть ультралевого руководства, София Уншлихт и Домский, были тесно связаны с Зиновьевым; именно по этой причине, а вовсе не за их грехи в Польше, они были удалены. Решающим фактором снова стала борьба внутри советской партии. Ленский оставался в руководстве, несмотря на свою ультралевую политику, разделяя влияние с «тремя В». Ленский, в отличие от Домского и Уншлихт, выступил против зиновьевской оппозиции. Более того, он стал лидером сталинской группы в Польской коммунистической партии, тогда как Варский и Костшева, хотя и полностью лояльные к Сталину, сохраняли определенную дистанцию от него лично и были ближе к группе Бухарина. Позже это разделение внутри польской партии было закреплено в формировании фракции «меньшинства» под руководством Ленского и «большинства» во главе с Варским и Костшевой. В начале 1926 года эти две фракции разделяли между собой руководство, и обе были ответственны за политику партии, в частности за «майскую ошибку»; то есть за поддержку, которую КПП дала Пилсудскому во время его государственного переворота в мае 1926 года.
Кароль: Не могли бы вы рассказать о «майской ошибке» и объяснить её предысторию? У старых партийных боевиков я часто нахожу следующий тезис: во время переворота партия не могла избежать поддержки Пилсудского, который пользовался доверием Польской Социалистической партии и всех левых, и чей «путч» был направлен против так называемого правительства Хиена-Пяста (коалиция правых с центром). Партия, по их мнению, считала, что переворот в определенной мере означал начало буржуазной революции и поэтому был относительно прогрессивным явлением, поскольку в предыдущий период у власти были полуфеодальные землевладельцы, оттолкнувшие от правления даже буржуазию.
Дойчер: «Майская ошибка» имеет, конечно, огромное значение в истории польского коммунизма. Я не могу дать вам здесь подробное объяснение всех обстоятельств. Это потребовало бы анализировать сложные классовые отношения и политические силы. Сейчас я ограничусь наброском некоторых общих исторических очертаний. Опять же важно рассмотреть ситуацию на двух уровнях: на уровне классовой борьбы в Польше и под углом зрения внутреннего развития советской партии и Коминтерна.
Начнем с чисто польского аспекта. Польша переживала кризис парламентского режима. Никакое стабильное правительство не могло быть сформировано на парламентской основе, и ситуация отражала разложение социального и политического равновесия вне стен парламента, в стране. Все возможности парламентских комбинаций были исчерпаны. Массы были полностью разочарованы создавшимся режимом: он оказался неспособен обеспечить рабочие места и защитить трудящихся от катастрофических результатов девальвации; он обманул ожидания крестьян на земельную реформу; он вверг национальные меньшинства в состояние гнета и отчаяния. С другой стороны, имущие классы тоже были настроены против парламента и «всемогущества Сейма». Они боялись, что слабый польский парламентаризм, неспособный обеспечить стабильный кабинет министров, не говоря уже о «сильном» правительстве, подвергает существующую общественную систему опасности насильственного падения и революции. Созрела объективная ситуация для свержения парламентского режима. Теоретически было три альтернативы. Парламентский режим мог быть свергнут фашистским массовым движением, похожим на нацизм или на его итальянский прототип. Это, однако, было нереально. По причинам, в которые я не могу здесь входить, все попытки запустить такое фашистское движение в Польше, повторенные неоднократно как до, так и после 1926 года, терпели неудачу. Наши местные разновидности фашизма или нацизма приводили лишь к комическим буффонадам.
Вторая теоретическая возможность заключалась в свержении буржуазно-парламентского режима пролетарской революцией — к этому, вроде бы, должна была готовиться коммунистическая партия Польши. Однако в течение месяцев, предшествовавших майскому перевороту, Коммунистическая партия готовилась почти ко всему, кроме революции. До некоторой степени этот факт отражал спад боевых настроений среди рабочего класса, шок, понесенный им в 1923 году, и, наконец, истощение движения псевдо-революционной, но стерильной «активности» 1924—25 годов. Коммунистическому движению не хватало уверенности в себе, а когда авангард неуверен в себе, то рабочий классе в целом, естественно, находится в еще большем замешательстве. Не веря в себя, рабочий класс был склонен надеяться на внешние силы, уповать на выгоды, которые он мог бы получить через деятельность других классов или социальных групп. Такова была объективная политическая подоплека «майской ошибки».
Заметим, между прочим, что «майская ошибка» КПП началось задолго до 1926 года. Если моя память не изменяет, именно Варский, от имени коммунистической фракции, осенью 1925 года выступил в Сейме с внеочередным заявлением из-за «опасностей, угрожающих независимости Польши». Это выступление было как неожиданным, так и поразительным. Удивительно было, что друг Розы Люксембург внезапно предупреждает парламент по поводу «опасностей, угрожающих независимости Польши». В ситуации 1925 года было трудно понять причину его тревоги. Вывод Варского в конце этого выступления был еще более удивительным. В ответ на «угрозу независимости Польши», Варский требовал немедленного возвращения Пилсудского на пост главнокомандующего вооруженными силами (в то время Пилсудский, покинув армию, прозябал в Сулейовке).
Зрелище напоминало трагикомедию! Прошло всего пять лет после того, как Пилсудский во главе польской армии отправился в поход на Киев, главным образом для того, чтобы вернуть польских панов на украинские земли. А теперь Коммунистическая партия призывала этого «рокового человека» возглавить армию, чтобы защитить национальную независимость. Достаточно просто обрисовать ситуацию — а это единственно правдивая (хотя и гротескная) картина — чтобы похоронить теорию, согласно которой возвращение Пилсудского означало начало буржуазной революции в Польше. Каким образом защитник феодальных владений шляхты (помещиков и дворянства) внезапно превратился во вдохновителя буржуазной революции, главная задача которой обычно заключается в том, чтобы уничтожить феодализм и его останки?
Я назвал три возможных пути разрешения кризиса парламентского режима в Польше. Третья возможность заключалось в создании военной диктатуры. Пилсудский был явным кандидатом в диктаторы. Его высокая репутация давала ему преимущество по сравнению с другими генералами. Легенды окружали его как борца за национальную независимость, бывшего главу Польской социалистической партии, антицарского террориста 1905 года и организатора польских легионов в 1914 году. Своим требованием о его возвращении к власти Польская Коммунистическая партия, вслепую и против своих интересов, вплела несколько фиолетовых нитей в ткань этой довольно фальшивой легенды. Партия помогала лелеять иллюзии в трудящихся массах о «Дзядеке» (дедушке — пол.), — так Пилсудского называли его поклонники, — и таким образом готовила путь к майскому государственному перевороту. Правильно говорил Адольф Новачинский*, талантливый клоун национал-демократической мелкой буржуазии, описывая роль Пилсудского, когда он прозвал его «Наполеон IV, самый маленький»! Насколько более уместно было бы марксистам, которые обязаны на «Восемнадцатом Брюмере» Маркса учиться искусству политического анализа, именно так оценивать Пилсудского!
* Adolf Nowaczyński (1876—1944) — сын польского шляхтича и еврейки, польский патриот и писатель-сатирик, работы которого были направлены против польской буржуазии и еврейских банкиров. Погиб во время Варшавского восстания Армии Крайовой в 1944 году. — И-R.
Кароль: Тем не менее правда ведь, что Пилсудский выступал против коалиции правых и центра, возглавляемой Витосом*, представлявшей интересы мелких помещиков и дворянства. Не правда ли, что именно это правительство отменило парламентские свободы и начало создавать фашистский режим? Разве эти факты — независимо от событий 1920 года — не указывают на то, что партия была в определенной степени вправе поддержать Пилсудского?
* Wincenty Witos, Витос, Винценты (1874—1945) — буржуазный националист; три раза премьер-министр: в 1920-21, 1923, и 10-14 мая 1926 г. Бежал от Пилсудского, был арестован режимом маршала, потом жил в ссылке в Чехословакии до 1939 г. Во время Второй Мировой войны был арестован немецкими властями. В 1945 г. вернулся в освобожденную Польшу был вице-президентом временного правительства, Krajowa Rada Narodowa, до своей смерти в октябре. — И-R.
Дойчер: Нет сомнений в том, что так тогда казалось многим коммунистам, а тем более социалистам. Тем не менее это являлось оптической иллюзией; это наваждение вскоре исчезло, но было слишком поздно. В любом случае нельзя, не впадая в чрезмерное упрощение, определять правительство Витоса как представляющее интересы землевладельцев. Витос олицетворял компромисс между интересами землевладельцев и богатых крестьян, компромисс, достигнутый за счет бедных крестьян, лишавший бедняков их последней надежды на аграрную реформу. Этот компромисс был явным результатом надежд помещиков и кулаков. Более того, неверно, что опасность фашизма исходила от этого правительства. Правительственная коалиция представляла собой наиболее реакционное сочетание интересов и сил, которое было возможно в рамках парламентского режима, но оно действовало именно в этих рамках. Вне парламента оно не обладало достаточной политической силой, чтобы противопоставить себя «всемогуществу Сейма». В этом была неразрешимая дилемма польских имущих классов и их традиционных партий; они были неспособны сохранить свое классовое господство ни путем стабилизации парламентского режима в собственных руках, ни путем свержения этого режима. Как и в рассказе Маркса о Восемнадцатом Брюмера, только исполнительная власть, только государственная машина могла разрешить эту дилемму, по крайней мере на некоторое время. На протяжении двадцати лет между двумя Мировыми войнами в Польше не существовало объективных условий, благоприятствующих возникновению реальной фашистской диктатуры, если под «фашизмом» мы понимаем тоталитарную диктатуру, основанную на сильном и явно контрреволюционном массовом движении. Не было недостатка в кандидатах на роль Гитлера или Муссолини, но в Польше контрреволюция так и не смогла собрать такое массовое движение. Контрреволюция могла предложить только «диктатуру меча». И снова, как и в классическом описании Маркса, мы являемся свидетелями ссор и грубых «разборок» между нашим собственным псевдо-Наполеоном и нашим собственным Шангарнье. Эти ссоры касались вопроса о том, чей меч будет править нацией — Пилсудского или Галлера. (Сегодня в Польше мало кто помнит, но Галлер был в свое время самым важным соперником Пилсудского.) Из-за роли, которую «мифология независимости» играла в нашей политической жизни и в нашем политическом мышлении, выбор меча зависел от выбора ножен. Только меч Пилсудского, одетый в ножны легенды о борьбе за независимость, считался способным осуществить власть над народом, способным обезглавить слабое тело польского парламентаризма.
Józef Haller von Hallenburg (1873—1960) — австрийско-польский офицер, возглавлял бригаду польских солдат под эгидой Австро-Венгрии воевавшую против России во время Первой Мировой войны. После заключения Брестского договора Галлер, как и большинство польских буржуазных националистов, всеми правдами и неправдами боролся против власти Советов в Польше, на Украине и в России. — И-R.
Другими словами, Пилсудский политически экспроприировал польских помещиков и буржуазию, чтобы защитить их социальное господство над пролетариатом и крестьянством. Когда в мае 1926 года мы увидели президента Витоса в плохо застегнутых штанах, убегающего по заднему двору дворца Бельведер в Варшаве от отрядов Пилсудского, мы стали свидетелями этого акта политической экспроприации. Для рабочего класса и для его партий это выглядело как начало экономической и социальной экспроприации. Но Пилсудский сохранил польские имущие классы, несмотря на них самих и их традиционных представителей; и он сделал это с помощью рабочих партий.
Все это еще не объясняет до конца происхождения «майской ошибки». Еще до майского переворота лидеры польской коммунистической партии имели предчувствие, что Пилсудский готовится захватить власть и что ничего хорошего рабочему классу это не принесет. Кажется, Варский так и сказал открыто. Даже некоторые из лидеров польской социалистической партии не имели иллюзий по этому поводу. Я помню, как, будучи новичком-журналистом в возрасте девятнадцати лет, я в первую ночь путча случайно оказался на Варецкой улице, в офисе Феликса Перла, редактора «Роботника» и историка Польской социалистической партии, и одного из её выдающихся лидеров. Перл очень волновался и возмущался. Каждые несколько минут он хватал телефон и требовал, чтоб его соединили со штабом Пилсудского, лично с генералом Токаржевским, если я не ошибаюсь, и с кисло-сладким взглядом на лице спрашивал: «Какие новости на нашем фронте, товарищ генерал? Как наступают наши войска?» Потом, повесив трубку, он нервно ходил взад и вперед и, забывая о моем присутствии, ворчал про себя: «Этот авантюрист [то есть, Пилсудский] завел нас в болото. Если он потерпит неудачу, все будет плохо, но если он победит, он нас разгромит». Эта сцена повторялась несколько раз в течение ночи. Между тем станки в типографии «Роботника» печатали листовку с обращением к «трудящимся столицы», в которой «авантюрист» был назван надежным другом рабочего класса и социализма.
Но вернемся к Польской коммунистической партии. Её лидеры были слишком хорошими марксистами, чтобы быть в обычных обстоятельствах запутанными легкомысленной оптической иллюзией, даже когда эта иллюзия отражает своеобразные классовые отношения страны. Была другая, возможно более веская причина «майской ошибки», её следует искать в идеологической атмосфере и в политике Коммунистической партии Советского Союза и Коминтерна. Польская секция была не единственной, сделавшей такую «ошибку»: подобная ошибка, только в гигантских масштабах и с трагическими последствиями была совершена Коммунистической партией Китая, когда она слепо поддержала Чан Кайши и Гоминьдан. И в соседней Румынии почти в то же время — кажется это было тоже в мае 1926 года — крайне слабая коммунистическая партия поддержала аналогичный военный путч, проведенный генералом Антонеску.
Напомним, что это было во время блока Сталина с Бухариным. Троцкизм уже был разгромлен; жестокая борьба между сталинско-бухаринской группой и так называемой ленинградской оппозицией во главе с Зиновьевым и Каменевым была в самом разгаре. Бухарин по принципиальным и Сталин по тактическим, соображениям объявили себя защитниками мелко-крестьянской собственности и крестьянства вообще, которому якобы угрожала ленинградская оппозиция. Фактические разногласия были связаны с внутренней экономической и социальной политикой, но, как обычно, Сталин превратил дискуссию вокруг конкретных мер в великую догматическую битву, где главным вопросом стало фундаментальное отношение к «промежуточным слоям» — крестьянству и мелкой буржуазии. Сталин и Бухарин обвинили ленинградскую оппозицию в враждебном отношении к «промежуточным слоям», в том, что она якобы не понимает важности союза пролетариата с этими слоями. Эта дискуссия стала вторым актом антитроцкистской кампании 1923-25 годов. Самым серьезным обвинением в адрес Троцкого было то, что его теория перманентной революции «недооценивает» значение промежуточных слоев, их прогрессивную роль и необходимость союза с ними. Троцкий, — говорили его противники, — не понял или недооценил в 1905 году необходимость буржуазной революции в России (и в других отсталых странах), поэтому он провозгласил, что в XX веке буржуазно-демократическая революция и социалистическая революция слились в единую («перманентную революцию»), которая должна быть осуществлена под руководством пролетариата. Попытка «перепрыгнуть» через буржуазную стадию революции, — говорили сторонники большинства, — была характерной ошибкой троцкизма.
Я не могу войти сейчас в анализ этих чрезвычайно сложных проблем; здесь я описываю их последствия в Польше. Коминтерн был занят искоренением троцкистской и зиновьевской ереси. Отличительным знаком этой ереси было объявлено «ультралевое» и негативное отношение к «смычке с промежуточными слоями», фундаментальное нежелание сохранять такие союзы и нежелание признать, что буржуазная революция, особенно в отсталых странах, представляет собой отдельную стадию исторического развития, когда буржуазия играет прогрессивную и даже революционную роль. Коминтерном овладел навязчивый культ «единого фронта». Любые признаки скептицизма в отношении этого культа были ошельмованы как троцкизм. Культ единства служил двойной цели: в Советском Союзе он оправдывал «правую» линию Бухарина и Сталина; на международном уровне он оправдывал советскую политику в Китае, которая подчиняла Коммунистическую партию Китая Гоминьдану и отдавала её в распоряжение Чан Кайши. Принципы и методы этой политики вскоре были применены автоматически и бюрократически ко всем секциям Интернационала, и среди них, конечно, к польской партии. В переводе на польский язык эта линия подразумевала «союз» с Пилсудским как представителем «прогрессивных» сил «буржуазной» революции. Пилсудский внезапно превратился в почти идеального союзника, и только троцкисты и зиновьевцы могли оспаривать эту идею.
Кароль: А были в это время какие-то троцкистские или зиновьевские группы в Польской коммунистической партии?
Дойчер: Как я уже говорил, Домский и София Уншлихт разделяли некоторые идеи зиновьевской оппозиции. Однако к тому времени они были удалены от какой-либо деятельности в польской партии. Тем не менее руководство партии хорошо понимало спорные практические и политические вопросы, а также затронутые доктринальные вопросы; оно работало с полным знанием идеологических конфликтов в Москве. В это время Варский и Костшева проявили необычайную покорность Сталину. Они питали иллюзии, что своим послушанием в Москве они купят себе свободу действий внутри своей собственной партии. Морально связанные своей двойной «ошибкой» 1923 года (вмешательство в защиту Троцкого и «оппортунистическая» линия в Польше), они стремились доказать свое обращение в настоящих «большевиков», которые верят в эти два отдельных этапа революции, буржуазный и социалистический, верят в «большевизм», придающий огромное значение союзу с «прогрессивными буржуазными» элементами. Вся партийная пропаганда проводилась в этом духе; она создала определенные условные политические рефлексы внутри партии, которые способствовали «майской ошибке».
Кроме того, мы должны рассмотреть влияние на настроение партии в результате кампании, проведенной с целью ликвидации так называемого «наследия Люксембург». Кстати, эта проблема до сих пор не получила того внимания, которое она заслуживает, вероятно, потому, что те, кто изучает историю партии, недостаточно подготовлены к рассмотрению проблемы — им не хватает как методологии, так и фактических знаний. Вокруг «наследия Люксембург» выросли самые экстравагантные мифы. Я не хочу, чтобы мое сообщение породило недоразумения; я не утверждаю, что Роза Люксембург была непогрешимой, и я не последователь Люксембург. Несомненно, она допустила некоторые ошибки, но они были не более серьезными, чем ошибки Ленина или даже Маркса, и в любом случае её ошибки были совершенно иной категории, чем «ошибки» Сталина. Надо анализировать эти ошибки строго и объективно и видеть их в истинных пропорциях. Это, однако, не было таким анализом, каким интересовались Сталин и Зиновьев в 1923-24 годах, когда во имя «большевизации» КПП они объявили священную войну «люксембургианству» — то есть войну главным идеологическим традициям польского коммунизма. Чтобы понять, что действительно имело значение для Сталина, достаточно перечитать его пресловутое письмо 1931 года в редакцию «Пролетарской революции». Инстинктивно Сталин обнаружил близость Розы Люксембург с Троцким. И хотя в течение 1920-х годов в польской партии не было никакой троцкистской оппозиции, от в ней чуял «троцкизм»; Сталин считал наследие Розы Люксембург польской родней троцкизма. Это спровоцировало furor theologicus (теологическую злобу), с которой Коминтерн сокрушал наследие люксембургианства.
Нельзя говорить, что это наследие было выше всякой критики. Отношение Ленина к вопросу о национальной независимости, а точнее, к вопросу о самоопределении угнетенных народов, было более реалистичным, чем отношение Розы Люксембург. Что касается аграрного вопроса, то Роза Люксембург и её ученики не выходили за рамки пропаганды обобществления сельского хозяйства, не понимая необходимости в России и Польше разделить землю полуфеодальных латифундий между крестьянами. Такое отношение не дало польскому коммунизму возможности оказать революционное влияние на крестьянство в 1920 году, особенно в восточных провинциях страны. Но во время кампании против Люксембург было недостаточно критически анализировать эти ошибки. Руководство искореняло весь образ мышления, который принадлежал наследию как Люксембург, так и марксизма как такового — традиций истинного интернационализма, специфической пролетарской и социалистической ориентации партии, её здоровое недоверие в отношении лидеров (подлинных или самозванных), выходцев из так называемых средних слоёв населения. Таким образом, КПП «искупила грехи» Люксембург против национальной независимости своими запоздалыми и абсурдными проявлениями почтения к фетишам патриотизма; партия даже начала платить незаслуженную дань уважения «легендам о независимости». Из этого вытекает то парадоксальное зрелище, о котором я говорил выше, когда в 1925 году Варский озвучил опасение по поводу национальной независимости и потребовал возвращения Пилсудского на пост главнокомандующего. С одной стороны, Варский был жертвой угрызений своей политической совести, а с другой стороны, он вторил антилюксембургской анафеме, начатой в Москве. Как бы для искупления «антипатриотических грехов» своей молодости Варский — и в его лице польский марксизм в целом — отправился в Каноссу. В этом паломничестве партия боролась сама с собой и мучилась горькими опасениями: она воздала дань уважения будущему диктатору, о котором Роза Люксембург в начале века заявила, что вся его «патриотическая» идеология — это сублимация мечты мелкого деклассированного дворянина, который даже при царизме считал себя будущим жандармским генералом в своем «собственном» независимом польском государстве. Возможно, Роза ошибалась в том, что буржуазная Польша вновь обретет независимость, но она не ошибалась в отношении амбиций Пилсудского и характере пилсудскизма.
Наконец, люксембургианство, как и троцкизм, было обвинено в смертном грехе непонимания задач партии в буржуазной революции. В своем энтузиазме разрушить и победить традицию Люксембург, партийные лидеры неожиданно обнаружили, что в Польше история поставила на повестку дня буржуазно-демократическую революцию, а не, как они думали до тех пор, социалистическую революцию, которая должна была завершить нашу просроченную и незаконченную буржуазную революцию. Но если на повестке дня стояла буржуазная революция, то кто мог стать её руководителем и вождем? Ни в своей юности, ни в зрелости польская буржуазия не породила Дантона или Робеспьера. Как же могла она родить его в старости? Но ответвление нашего мелкого дворянства, наша «пограничная шляхта», могла все еще родить нашу кукольную версию Восемнадцатого Брюмера. И в нем наши марксисты, введенные в заблуждение и безнадежно запутанные сталинизмом, обнаружили героя буржуазной стадии революции. Ситуация была гротескной именно потому, что эта буржуазная революция была направлена на свержение правительства, возглавляемого Витосом, лидером кулаков, поддержанным крупнейшим — крестьянским сектором — польской буржуазии. Оглядываясь назад, ясно виден порочный круг, в который сталинское руководство ввело КПП: в 1926 году партия увидела в Пилсудском союзника против «фашизма» Витоса, а несколько лет спустя, в период Народных фронтов, партия приветствовала в Витосе бойца и союзника в борьбе с «фашизмом» Пилсудского. Кстати, ППС и без помощи Сталина барахталась в том же порочном кругу.
Кароль: Вы провели аналог между «майской ошибкой» польской компартии и поддержкой, которую китайская компартия дала Чан Кайши в то же время. Помогла ли КПП Пилсудскому согласно определенным приказам из Москвы, в такой же форме, как китайцы поддержали Чан Кайши?
Дойчер: Нет. Отношение Сталина и Бухарина к Пилсудскому отличалось от их отношения к Чан Кайши. Чан Кайши был тогда почетным членом Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала; Сталин видел в нем союзника Советского Союза и коммунизма. В Пилсудском они все видели врага в войне 1920 года. Мало того, что Москва не советовала коммунистам поддержать Пилсудского, она сразу же заняла критическую позицию о действиях КПП во время майского путча. Более того, когда коммунистическая группа в Сейме решила голосовать за Пилсудского на выборах президента, это было предотвращено Исполкомом Коминтерна. Не «приказы из Москвы» виновны в «майской ошибке», а скорее определенный политический фетишизм, который распространялся из Москвы и неотделим от этой стадии сталинизации и бюрократизации Коминтерна. Сталин не приказывал Варскому отчитываться перед штаб-квартирой Пилсудского во время переворота. Но сталинизм отвечал за «майскую ошибку» потому, что он запутал КПП, потому, что он путал другие коммунистические партии, поскольку он не позволял партии анализировать ситуацию и проблемы марксистским образом, поскольку он терроризировал партийных лидеров культом центра, который не позволял им разрабатывать политику в соответствии с требованиями нашей классовой борьбы и нашей идеологической традиции. Можно сказать что угодно против «люксембургианства», но в рамках этого «изма» не было никакого места ни для чего, даже отдаленно напоминающего «майскую ошибку». Может ли кто-нибудь вообразить, что Роза Люксембург послушно идет в штаб-квартиру Пилсудского и объявляет о поддержке его переворота? Этот «подвиг» совершил её несчастный ученик, чей политический хребет был безнадежно деформирован сталинизмом.
Кароль: Как долго поддерживала партия эту политику?
Дойчер: Очень короткое время. Насколько я помню, уже на следующий, или в крайнем случае второй день после государственного переворота, в Москве циркулировали прокламации ВКП(б), описывавшие Пилсудского как фашистского диктатора. Сам Пилсудский не позволил партии лелеять такие иллюзии; он сразу же отказался дать амнистию тысячам заключенных в тюрьму коммунистов и трубил о правительстве «сильной руки», которое он собирался создать; он отказался от всех «социальных экспериментов» и реформ и сразу же попытался прийти к соглашению с крупными землевладельцами.
Есть некоторые мгновенно сделанные ошибки; они совершаются в течение нескольких дней или даже часов, но последствия нельзя исправить в течение десятилетий. «Майская ошибка» была такой. Справедливости ради, о руководителях КПП следует сказать, что, в отличие от ППС, — которая, несмотря на реакционную и диктаторскую политику Пилсудского, поддерживала его два года и больше, — коммунисты быстро оправились от майского «опьянения», сразу же начали активно бороться с Пилсудским и продолжали эту борьбу до конца. Дезориентированная и сбитая с ног, коммунистическая партия по-прежнему оставалась единственной защищавшей дело пролетариата и бедного крестьянства и отстаивавшей демократические свободы, а социалисты, предполагаемые сторонники демократии, наоборот помогли Пилсудскому укрепить свою позицию и подорвать все демократические институты. Варский старался изо всех сил исправить свою «майскую ошибку». В этом деле он проявил большое достоинство, воинственность и личное мужество. От имени партии он в Сейме бросил обвинения в лицо Пилсудскому, и его, по приказу диктатора и в его присутствии, насильно вытащили из Национальной ассамблеи охранники маршала. Чтобы понять, что означал в то время крик Варского «Долой диктатора», нужно иметь в виду культ, который в то время окружал Пилсудского. Сам Пилсудский был ошеломлен этим криком: это была первая атака на его ореол, первая попытка порвать его в клочья. Я также вспоминаю образ Варского на Театральной площади 1 мая 1928 года. Он выступал во главе нашей огромной и нелегальной демонстрации, посреди автоматных и винтовочных выстрелов, с которыми нас приветствовали боевики Социалистической партии. Когда десятки и сотни раненых падали в наших рядах, он высоко поднял свою светло-седую голову, делавшую его легкой мишенью, видной издалека; он неуступчиво и невозмутимо обратился со словами к толпе. Этот его образ я мысленно увидел, когда через несколько лет Москва объявила, что он предатель, шпион и агент Пилсудского.
Кароль: Какую ответственность несли за «майскую ошибку» разные фракции, «большинство» и «меньшинство»? Существовал ли этот раскол до 1926 года?
Дойчер: Насколько я знаю, этого разделения до 1926 года не существовало. Фактически, именно «майская ошибка» вызвала появление этих фракций; если память мне не изменяет, эти две фракции впервые появились на пленарном заседании Центрального комитета КПП в сентябре 1926 года. И как часто бывает, новый раскол начали искать в предыдущих разногласиях. Ленский, лидер меньшинства, принадлежал в 1924—25 годах, — после того как «трое В» были отстранены от руководства, — к так называемому «левому крылу». Большинство из тех, кто принадлежал к его тогдашней фракции, за два года до того действительно были на стороне меньшинства; многие из тех, кто принадлежал раньше к «правым», в сентябре 1926 оказались на стороне большинства. Прослеживались еще более старые антагонизмы: поскольку двое из лидеров большинства, Костшева и Валецкий, пришли в КПП из ППС-левицы. Что касается спора между Варским и Леньским, то была предпринята попытка проследить его в конфликтах внутри СДКПиЛ (люксембургцев) до Первой мировой войны. Тем не менее мне кажется, что это были надуманные разветвления, что их втягивали в спор довольно необоснованно. Их непричастность к ситуации 1926 года подтверждается тем фактом, что обе фракции, как большинство, так и меньшинство, разделяют ответственность за «майскую ошибку». В критический момент они обе вели себя точно так же. Обе фракции поддержали Пилсудского. Обе одинаково признали свою ответственность за эту грубую ошибку; они спорили лишь о том, какая фракция внесла большую лепту, какая меньшую, в общую «майскую ошибку».
Большинство отождествляло себя с теорией «двух отдельных стадий революции» и тактикой единого фронта, в котором коммунистическая партия шла, а скорее, ковыляла, позади ППС. Было несколько сложнее определить отношение лидеров меньшинства, так как сами они не решались его четко определить. В значительной степени они выражали радикальные настроение в партии, а не какие-то точные теоретические концепции. Они ни в коем случае не сражались с фетишем дисциплины, который навязывал польской секции Коминтерн и который вносил вклад в «большевизацию» или, другими словами, в бюрократизацию Польской компартии. В этом смысле они в еще большей степени способствовали моральному разоружению движения. Обе фракции разделяли ответственность, и каждая пыталась — не очень эффективно — свалить вину на другую. Это был трудный период. Партия была расколота сверху донизу и занималась стерильными взаимными обвинениями.
Обвинения были стерильными, потому что ни одна из двух фракций не была в состоянии выявить истинные источники ошибки; ни одна из них не была способна дать даже постфактум марксистский анализ майского путча и режима, который вышел из него. Каждая фракция искала в своем противнике причину морально-политической катастрофы партии; ни одна не осмелилась указать на Коминтерн; им не хватало смелости атаковать фетиши сталинизма; не хватало смелости бросить вызов ложной «большевизации» партии. Ни та, ни другая не осмелилась подвергнуть критическому анализу методы, с помощью которых атаковали «наследие Люксембург»; ни у кого не хватило сил, чтобы попытаться спасти то, что было и продолжало быть важным и жизненным в этом наследии.
Будем надеяться, что теперь польский рабочий класс заново откроет это наследие. Он найдет там свое прошлое и забытое величие. Однако вполне возможно, что укореневшиеся штампы, сформированные не только в последние годы, а в течение добрых тридцати лет, затруднят для молодежи и для старого поколения польских марксистов дорогу к этому наследию. Я хотел бы добавить, что это не может быть вопросом использования в некоторых тактических целях нескольких изолированных фрагментов мышления Розы, таких как, например, её первоначальные сомнения в 1917 году — в современной Польше нет конца таким попыткам «использовать» Розу Люксембург. Нет, задача польских марксистов состоит в том, чтобы ассимилировать сумму и сущность идей нашего величайшего революционера, идей, которые полностью согласуются с важнейшими достижениями Ленина.
Но вернемся к Польской компартии в 1926 г. Партия искала причины своих политических ошибок исключительно в самой себе. Лидеры надеялись остаться у руля при поддержке правящих кругов в Советском Союзе. Варский и Костшева полагались на поддержку Бухарина, который тогда был важнейшим лидером Интернационала. Что касается Ленского, то он поставил свое будущее на карту Сталина. Обе фракции отчаянно боялись возможного конфликта с русскими; они опасались, что такой конфликт приведет к разрыву с революцией и с международным коммунистическим движением. Я не предъявляю никаких обвинений людям, возглавлявшим польскую компартию. У них были причины вести себя так, а не иначе. Я знаю это по собственному опыту, как бывший член оппозиции, который не боялся конфликта с советской партией и который предпринял в 1932 году борьбу с полным пониманием её последствий. Я на собственном горьком опыте убедился, что на самом деле все группы, которые не отступили от этого конфликта, осудили себя на изоляцию и политическое бессилие. Но тот факт, что лидеры польской партии подчинились Сталину, тоже не спас их от политического бессилия. Они завели рабочий класс в тупик; их действия осудили их самих на интеллектуальное и моральное бесплодие, а партию — на смерть.
Конфликт между большинством и меньшинством являл печальное зрелище бесплодной ссоры. Проклятые души бесцельно воевали друг с другом, заключенные в заколдованный круг сталинизма. Не было никаких попыток найти объяснение ситуации, расследовать допущенные ошибки и предстоящие задачи; все просто хотели доказать свою верность Сталину и боссам Коминтерна. Каждая фракция использовала последнюю модную формулу Москвы, чтобы обелить себя и очернить противников. Исследователь, который погрузится в партийную литературу этого периода, будет поражен схоластикой этого спора, навязчивым повторением некоторых магических формул и странной жестокостью дискуссий, предмет которых остается совершенно неуловимым.
Кароль: А вы сами принадлежали к большинству или к меньшинству?
Дойчер: Ни к тем, ни к другим. Вероятно, потому, что, когда я присоединился к партии в возрасте девятнадцати лет, разграничительная линия уже была очерчена, и я не совсем понимал, в чем дело. Однако я хорошо помню, что в 1926-27 годах у меня появилось очень острое чувство бесполезности спора. Мне казалось, что на большинстве лежит печать определенного оппортунизма, что меньшинство настроено более революционно. Меня беспокоило в меньшинстве его интеллектуальная грубость и склонность к сектантству. Мне казалось, что большинство представляет собой более серьезную школу мысли и более глубокую марксистскую традицию. Это было преобладающим взглядом среди группы товарищей, с которыми я встречался, будучи тогда совсем молодым коммунистом. Это, возможно, побудило меня оставаться в стороне от обеих фракций и искать выход из тупика в другом направлении. Я убежден, что историю польской партии нужно изучать заново; приблизиться к ней с точки зрения старого меньшинства, или старого большинства бесплодно и не принесет положительного интеллектуального или политического результата.
Кароль: Какая из фракций доминировала в партии после мая 1926 года?
Дойчер: Во время государственного переворота обе фракции разделяли руководство, и это положение дел продолжалось почти до конца 1928 года. В начале этого периода господство Варского и Костшевой было более заметным, хотя бы потому, что линия Бухарина все еще преобладала в Коминтерне. Как обычно, их влияние проявилось в более «органической» деятельности партии, в более тесной связи между партией и массами, в большей реалистичности её агитации и в её более сильном влиянии на левые элементы внутри Социалистической партии, сельского населения и национальных меньшинств. Несмотря на взаимные обвинения, ослабившие партию, в некотором отношении она быстро оправилась от своей «майской ошибки». Рабочий класс «простил» эту ошибку. Разве коммунисты не признали свою ошибку искренне и недвусмысленно? В конце концов, все они разделяли одни и те же иллюзии. Партия собиралась с силами. Это было подтверждено, например, результатами муниципальных выборов в Варшаве, где в 1927 году было подано больше голосов за нелегальный список коммунистической партии, чем за список любой другой партии. Избиратели знали, что их голоса в пользу коммунистов не будут засчитаны, что ни один из наших кандидатов не попадет в муниципальный совет, но они тем не менее демонстративно проголосовали за коммунистов. Это снова был период, когда в основных промышленных центрах — Варшаве, Лодзи, Домбровских угольных бассейнах — Коммунистическая партия была сильнее Социалистической партии, несмотря на жестокое полицейское преследование и взаимоистощающую фракционную борьбу. В 1928 году Коммунистическая партия действительно руководила рабочим классом в борьбе против диктатуры Пилсудского. Страх, который охватил сторонников Пилсудского и часть Социалистической партии, объясняет кровавые репрессии 1 мая, о которых я говорил раньше. (Нелегальные коммунистические демонстрации очень часто были многолюдней, чем демонстрации Социалистической партии, которые шли под двойной защитой полиции и их собственной вооруженной милиции.) Несмотря на все препятствия и трудности, у партии был некоторый шанс снова перейти в наступление. Но именно тогда она пережила новый удар, который сбил её с ног и обессилил движение.
Кароль: Вы имеете в виду изменения в руководстве и ликвидацию Варского и Костшевой?
Дойчер: Да. И снова важнее не то, что произошло, а то, как это случилось. Не столь важно, кто стоял у руля партии: Варский и Костшева или Ленский; более важно, что изменение было навязано исключительно «сверху», что оно не имело никакого отношения к логике классовой борьбы в Польше. Снова русская партия и Интернационал решали судьбу польских коммунистов и польского рабочего класса.
На VI Конгрессе Интернационала летом 1928 года борьба между Сталиным и Бухариным, ранее ограниченная стенами советского Политбюро, стала открытой. Действуя под давлением внутреннего кризиса в СССР, Сталин активизировал свою политику в отношении крестьянства и готовил сплошную коллективизацию. В Советском Союзе начиналась огромная социальная драма, и она повлекла за собой еще одну драму, менее явную, но по своим последствиям для европейского коммунизма столь же серьезную. Разойдясь с Бухариным по вопросам внутренней политики, Сталин решил искоренить влияние Бухарина в Коминтерне и изменить международную коммунистическую политику. Это автоматически повело к осуждению «большинства» в Польской коммунистической партии. Варский и Костшева были лишены всякого влияния. Руль был сильно повернут «влево». В 1929 году Молотов выдвинул злополучную концепцию «третьего периода», которая вкратце заключалась в следующем: капиталистический мир находится в непосредственно революционной ситуации; поэтому коммунистическое движение должно перейти к наступательной борьбе за власть; социал-демократия, отныне именующаяся «социал-фашизмом» — главный и самый опасный враг коммунизма; более того, левое крыло социал-демократических партий более опасно, чем их правое крыло; коммунисты должны направить огонь борьбы против этого врага; им запрещается заключать какие-либо соглашения с социалистами, они должны создавать свои собственные Красные профсоюзы (раскалывая общие профсоюзы) и с их помощью организовывать всеобщие забастовки и вооруженные восстания. Политика «третьего периода» проводилась с 1929 по 1934 годы. Это было время, когда в Германии лавинообразно рос нацизм, и перед лицом этой угрозы, — перед которой социал-демократы все равно капитулировали, — коммунистические партии оказались разоруженными. Когда германской компартии сказали, что её главным врагом был не Гитлер, а «социал-фашизм», что ей запрещено объединяться с социал-демократией против нацизма, немецкий коммунизм, связанный по рукам и ногам, был передан героям свастики.
В Польше прямые результаты этой политики были пока не столь трагичными, но достаточно мрачными. Тянущийся конфликт между Пилсудским, с одной стороны, ППС и крестьянским движением, с другой, нагревался до точки кипения. Это были годы оппозиции Лево-центра. Пилсудский схватил лидеров этой оппозиции, посадил их в тюрьму и подверг их пыткам в крепости-тюрьме Бресте. Антикоммунистический террор тоже усилился и достиг кульминации — в виде пыток заключенных в тюрьму украинских коммунистов. В этих условиях политика и лозунги «третьего периода», усердно переведенные на польский язык Ленским, имели характер злонамеренной, политической диверсии. Члены партии должны были «направлять огонь» на жертв в Брестской тюрьме, а не на их палачей; они должны были верить, что поддержка борьбы Лево-центра против Пилсудского есть самое серьезное прегрешение партии, превратить борьбу с левыми в ожесточенную конкуренцию «кто революционней», на которую лидеры Лево-центра не могли и не хотели пойти.
В условиях, несравненно более серьезных, польская коммунистическая партия повторила ту же серию ультралевых ошибок, которые она совершила в 1924—25 годах. Она снова упражнялась в ультра-революционной акробатике, заключавшейся в энергичных и радикальных прыжках в бебзвоздушном пространстве — деятельности, цель которой становилась все менее реальной. Громкие и высокие слова не сопровождались делами. Партия находилась в изоляции — и её ряды таяли. Она отрезала себя от рабочих и крестьянских масс, которые были сначала возбуждены, а затем запутаны непродуманной деятельностью левых и центра. Партия потеряла общий язык с массой рабочих и все больше и больше оттеснялась на периферию политики, к радикальным, но политически бессильным деклассированным элементам мелкой буржуазии, в основном еврейским. Вожди не видели и не хотели видеть вакуум, образовавшийся вокруг партии и моральное опустошение в её рядах. В конечном итоге, революционная партия не может терпеть безнаказанно разрыв между словом и делом; она не может отвернуться от действительности, продвигать псевдореволюционную «линию», не расплачиваясь за своё притворство потерей собственного лица. Такой была цена, которую весь Коминтерн заплатил за политику «третьего периода». Польская секция, кроме того, работала под диктатурой фракции, которая, следуя примеру Сталина, обливала грязью своих внутрипартийных противников, закрывала им рот и этим остановила все процессы формирования партийного мнения. Эта характеристика сталинского внутрипартийного режима, с которым Польша близко познакомилась в 1940-е и 1950-е годы, существовала уже в конце 1920-х годов и полностью развилась в 1932-33 годах. Такой феномен был тем более парадоксальным, что эта монолитность не стала результатом «коррупции власти», которую в какой-то степени надо ожидать в правящей партии, и она не была вызвана ростом бюрократии, охранявшей свои социальные и политические привилегии. Польская коммунистическая партия оставалась партией угнетенных и преследуемых. Её члены и сторонники продолжали наполнять тюрьмы Пилсудского и Рыдз-Смиглы*. Мечта о пролетарской революции и социализме все еще вдохновляла их. Именно эта надежда побуждала их слепо принимать все, что исходило от Советского Союза — отечества пролетариата. Партия изменяла самой себе, предавала свои принципы. Во имя преданности революции, она переставала быть партией революции.
* Rydz-Śmigły Рыдз-Смиглы Эдвард (1886—1941) — польско-австрийский офицер, дослужился до чина полковника в Польском Легионе австрийской армии в Первую Мировую войну. Потом был одним из военных помощников Пилсудского в борьбе против Советов и за идею Великопольши. — И-R.
Кароль: В середине 1930-х годов КПП повернула в сторону Народного фронта. Как это повлияло на неё?
Дойчер: К этому времени я уже вышел из партии. Отрезанный от неё, я мог судить только издалека. Что бы ни говорили против неё, политика Народного фронта, несомненно, омолодила и обновила партию; партия соприкоснулась с реальностью. КПП привлекла новые элементы в круг своего влияния. Мне кажется, что интеллектуалы, которых в то время привлекла КПП, теперь играют важную роль в политической жизни Польши. Поэтому эти руководители создают об этом периоде для молодого поколения идеализированную, чрезмерно красивую картину. Мы должны рассматривать ситуацию холодно и объективно.
Народный фронт был прямой противоположностью политики «третьего периода». Вчерашние «социал-фашисты» превратились в антифашистских бойцов. Даже правые лидеры крестьянского движения, такие как Витос, были признаны рыцарями демократии и прогресса. По сравнению с умеренностью новой тактической линии партии, «оппортунизм» Варского и Костшевой выглядел как буйный ультрарадикализм. Однако лозунги Народного фронта были в 1935 и 1936 годах запущены теми же лидерами (Ленский и Генриковский), которые всего годом раньше направляли огонь на «социал-фашистов» и считали «единый фронт снизу» единственно допустимой политикой, которые изгнали из партии сотни боевиков просто потому, что те осмелились сомневаться, действительно ли социал-фашизм был «главной и самой серьезной опасностью». Повторяю, важно не то, какая политика применялась, а то, как она применялась. Этой смене линии не предшествовала ни одна внутренняя дискуссия; резкое изменение линии в Польше следовало параллельно с изменением линии Коминтерна, а тот, в свою очередь, руководствовался расчетами внешней политики Сталина. Таким образом, влияние на партию от изменения её политики было полно противоречий. С одной стороны, разрыв с «третьим периодом» оказал стимулирующее и освежающее воздействие на партию и позволил ей выйти из своего тупика. С другой стороны, механический характер этого поворота, полностью исходящий «сверху», еще больше атрофировал политическое мышление в кадрах старых боевиков, которые уже привыкли заменять один набор политических ритуалов другим по команде, и рассматривать все политические понятия и все лозунги как набор дежурных фраз без живого содержания. Партию разъедали цинизм и идеологическая апатия. Молодежь, которая начала свою политическую жизнь под знаменем Народного фронта, приветствовала новые лозунги гораздо серьезнее и с энтузиазмом влилась в гущу антифашистской деятельности. Тем не менее этот период не способствовал формированию марксистского сознания у молодых; они впитали лишь незначительную часть коммунистической традиции партии. Партийная пропаганда, — распространяющая самые неопределенные «демократические» и антифашистские лозунги, самые безвкусные прокламации, например, «давайте все вместе…», — выбрасывала в мусорное ведро все критерии пролетарского интереса и классовой борьбы. Пропаганда партии едва ли отличалась от рутинной пропаганды правых социалистов, за исключением того, что коммунисты были явно неискренни. Идейная узость и патриотически-демократическая пошлость характеризовали партию, которая когда-то черпала вдохновение из вдохновленной мысли Розы Люксембург.
Я останавливаюсь на этом не для того, чтобы бередить старые раны или оживлять старые противоречия, но для того, чтобы показать состояние духовной слабости партии накануне её уничтожения, и этим объяснить ту пассивность и молчание, с которыми в 1938 году КПП встретила свой смертный приговор и перенесла беспрецедентную резню своих лидеров.
Картина, рисующая Польскую коммунистическую партию как процветающую, интеллектуально здоровую организацию, полную силы и жизни, но которая внезапно оказалась жертвой провокации Ежова, — такая картина была бы ложной и неисторической. Чтобы реабилитировать партию вовсе нет необходимости рисовать такой миф. Более того, такая ложь превратила бы сам акт реабилитации в магический ритуал. Наоборот, мы должны спросить, как же случилось, что партия, которая имела за своей спиной долгие десятилетия подпольной борьбы и долгое (семьдесят лет!) наследие марксистской традиции, смиренно приняла это ужасное издевательство — без протеста, без каких-либо попыток защитить своих лидеров-мучеников и своих боевиков, даже не пытаясь оправдаться, не объявляя, что, несмотря на смертный приговор, который объявил ей Сталин, она будет жить и бороться? Как такое могло произойти? Мы должны оценить степень моральной коррозии, с помощью которой сталинизм на протяжении многих лет разлагал польский коммунизм, чтобы осмыслить полный крах КПП под его ударом.
Кароль: Во время своего роспуска польская коммунистическая партия была обвинена в том, что она «заражена» троцкизмом и являлась агентством польской политической полиции. Каким было на самом деле, влияние троцкизма на партию?
Дойчер: Троцкистская оппозиция в партии была сформирована в 1931-32 годах. Она сгруппировала тех товарищей, которые раньше принадлежали как к меньшинству, так и к большинству, и тех, которые не были связаны ни с одной из фракций. Оппозиция не поддерживала априори позицию троцкистов. Она была сформирована на основе критического взгляда на политику «третьего периода», лозунгов «социал-фашизма», «единого фронта только снизу» и т.д., а также бюрократического внутрипартийного режима. Потребовав права польской партии на самоопределение, оппозиция сформировала критическое отношение к режиму, который преобладал в Интернационале и в его советской секции. Следовательно, идеи троцкистской оппозиции в СССР и особенно великолепная, хотя и бесплодная, кампания, которую Троцкий в изгнании вел за единый фронт против Гитлера, оказали мощное и решающее влияние на нашу группу. Вначале оппозиция имела довольно большое влияние. В Варшаве, где партия насчитывала в то время, кажется, чуть более тысячи членов, за оппозицию выступало около трехсот человек (большинство из которых играло важную роль в движении), не считая большого числа в сочувствующих партии организациях. К сожалению, прискорбное состояние, в котором находилась вся партия, оказало влияние и на оппозицию. Партия была отрезана от рабочих в крупной промышленности, оттеснена на мелкобуржуазные окраины, и эта слабость нашла отражение в оппозиции. Несмотря на то, что в столице мы смогли привлечь много активистов, наше влияние было значительно слабее в провинциях, где пульс партийной жизни в целом был довольно слаб. Большинство боевиков рассматривало оппозицию с большим сочувствием, но скоро им «сверху» дали понять, что не только приверженность, но даже простой контакт с оппозицией будут караться изгнанием из партии. Новая группировка, которая не просто продолжала старую и бесплодную вражду между меньшинством и большинством, но ставила проблемы партийной политики по-новому, сначала была воспринята с облегчением. Партийные лидеры в лучших традициях сталинизма использовали против нас изгнания и клевету. Те самые лидеры, которые через несколько лет будут ликвидированы как полицейские агенты, в 1932 году клеймили оппозицию как агента «социал-фашизма», а затем просто как агентов фашизма, как банду «врагов СССР».
Используя такие методы, руководству удалось задушить все дискуссии и терроризировать членов партии до такой степени, что они начали избегать нас с тем суеверным страхом, с которым правоверные прихожане избегают отлученных от церкви еретиков. Оппозиция была герметично изолирована от партии и к 1936 году практически не имела с ней контактов. Таким образом, обвинение в том, что Коммунистическая Партия Польши стала троцкистским «агентом», было явной выдумкой. Но тем не менее сомнения и мысли, которые оппозиция посеяла в партии, продолжали прорастать. Даже в то время как члены партии оставались конформистами, многие из них никогда не переставали прислушиваться к голосу оппозиции; оно влияло на них в большей или меньшей степени — во всяком случае достаточно, чтобы скептически относиться к святому писанию сталинизма. И поскольку ничто в природе никогда полностью не исчезает, наследие Люксембург тоже не было полностью потеряно, несмотря на долгие годы его искоренения. Влияние оппозиции и влияние этой традиции были таковы, что даже после «большевизации» психологический профиль самого правоверного польского коммуниста со сталинской точки зрения оставлял желать лучшего. Так было в 1930-е годы; к счастью, так было и после Второй мировой войны: в течение всего этого периода никогда не прекращал действовать определенный закон преемственности.
Кароль: Тем не менее, надо задать вопрос. Мы знаем, что у Пилсудского были агенты во всех левых партиях. Значит, он должен был заслать их и в Коммунистическую партию?
Дойчер: Теория об этих сетях агентов, которые Пилсудский якобы создал в разных левых партиях, является грубым упрощением. Никакая сеть секретных агентов не могла позволить Пилсудскому так влиять на социалистов и часть крестьянского движения, как он это делал в результате своих долгих и известных связей с этими партиями. Он был одним из учредителей Польской социалистической партии и на протяжении многих лет был её главным лидером и вдохновителем. Он был командующим Польского Легиона, вокруг которого сплотились патриотические левые. Даже после того, как он покинул ППС, он продолжал представлять то, что было его сутью: социал-патриотизм, доведенный до крайности. Именно это и стало основой «магического» влияния Пилсудского. Преклонение перед польской «государственностью», мечты о «единой и суверенной» Польше, старые симпатии, дружеские отношения и связи — это связывало группы сторонников Пилсудского в партиях умеренных и патриотических левых, несмотря на то, что во времена конфликтов он пытался их уничтожить изнутри. Не было и не могло быть аналогичной основы для группы его поклонников в КПП. Левые социалисты, которые после 1918 года оказались в рядах и в руководстве Коммунистической партии, имели за своими плечами более десяти лет жестокой борьбы против Пилсудского. Что касается старых друзей Люксембург, то вряд ли стоит сомневаться в их отношении к Пилсудскому. Однако даже в умеренных, патриотических, левых партиях (PPS или Wyzwolenie) «агенты» Пилсудского достигли очень мало. Очень быстро эти партии преодолели путаницу и расколы, вызванные «агентами». Только польская коммунистическая партия, если мы хотим верить Сталину, была полностью в руках «агентов» Пилсудского. В 1938 году, когда было выдвинуто это обвинение, любой, кто хотел опровергнуть его, сначала испытывал шок от явной бессмыслицы этого поклепа. Верно, что в 1930-е годы польская секция сильно страдала от полицейских провокаций. Падение идеологического уровня большинства боевиков, горечь фракционной борьбы, ультрареволюционная риторика 1929-1935 годов — всё это в определенной степени способствовало проникновению полицейских агентов в партию. В любом случае было бы удивительно, если бы у полиции не было никаких агентов в Польской коммунистической партии так же, как царская Охранка имела своих Азефов и своих Малиновских почти во всех подпольных российских партиях. Однако никто не собирался распускать большевистскую партию или партию социалистов-революционеров по этой причине. Сталинская провокация была гораздо более серьезной опасностью для польской коммунистической партии, чем все агенты-провокаторы польской тайной полиции.
Кароль: По вашему мнению, по каким причинам Сталин приказал распустить Польскую партию? Среди старых партийцев сейчас распространено мнение, что Сталин уже готовил почву для своего соглашения с Гитлером в 1939 году, и что он ликвидировал польскую партию и приговорил к смерти её лидеров, потому что опасался, что они могут помешать этому соглашению.
Дойчер: Этот мотив, несомненно, сыграл определенную роль в решении Сталина, но не объясняет его полностью. Варский и Костшева были в течение многих лет отрезаны от контакта с Польшей (и всем миром), и уже не могли оказать ни малейшего сопротивления Сталину, даже если бы они этого хотели. Что касается Ленского и Генриковского, то я убежден, что они остались бы верны Сталину даже в ситуации, столь важной для польского коммунизма, как август и сентябрь 1939 года, так же, как и лидеры французской секции, не говоря уже о немцах и других. Но здесь мы делаем предположения. Мне кажется, что поведение Сталина не может объяснить ни один мотив или трезвый расчет. Его иррациональные импульсы были столь же важны, как и его «рациональные» расчеты; его вынуждали действовать старые раздоры и давние страхи, все это усиливалось манией преследования, которая охватила его во время Московских судебных процессов, когда он расправлялся со старой ленинской гвардией. Будучи в плену таких настроений, Сталин видел Польскую коммунистическую партию как оплот ненавистной Люксембург, как «польскую разновидность троцкизма», который бросил ему вызов еще в 1923 году; как партию, лидеры которой были близки, одни, к Бухарину, другие, к Зиновьеву; партию неизлечимых ересей, гордящуюся своими традициями и своим героизмом; наконец, партию, которая вполне может в определенных международных условиях стать препятствием на его пути… И поэтому он решил убрать это препятствие с дороги с помощью лезвия той же гильотины, которая уже яростно уничтожала целое поколение большевиков.
Историк не закончит рассказ о судьбе Польской коммунистической партии её уничтожением. Эпилог этой истории — это, в некотором смысле, её самая важная глава. «Посмертная» судьба Польской коммунистической партии останется самым ярким свидетельством её величия. Разбитые, обескровленные, запутанные и возмущенные, старые кадры партии все еще были главным источником всех революционных сил Польши. Именно этот рудимент старой партии в конце Второй мировой войны, в своеобразной международной обстановке, которая благоприятствовала социальной революции, провел эту революцию. Оставшиеся в живых члены Коммунистической Партии Польши выступили в качестве исполнителей воли своей партии, хотя им приходилось делать это в условиях и с помощью методов, о которых и думать не могли никакие философы. И почти через двадцать лет после резни в польской коммунистической партии, её дух и, если позволите, что-то из старой традиции Люксембург, проявилось в октябре 1956 года.
Не только историк, но и каждый сознательный марксист должен сделать определенные выводы из трагической истории Польской коммунистической партии. Здесь я вынужден ограничиться одной довольно общей мыслью: если история Польской коммунистической партии и Польши вообще что-то доказывает, то она доказывает, насколько нерушима связь между польской и русской революциями. Это было доказано как в негативном, так и в позитивном смысле. За её попытку остановить международную революцию, начавшуюся в России, — попытку, предпринятую в 1918-1920 гг. — Польша должна была расплатиться двадцатилетним застоем и отсталостью, провинциально узкой и анахроничной общественной жизнью и, наконец, катастрофой 1939 года. С другой стороны, революция, изолированная внутри старой и отсталой России, изолированная (с польской помощью) мировыми антикоммунистическими силами, претерпела искажение, которое трагически затронуло не только народы СССР, но наказало и саму Польшу. Уже в 1920 году Польша почувствовала предвестие этой мести. Впоследствии это привело к деформации рабочего движения в Польше, которое было осуждено на бесплодие и бессилие. Затем наступил 1939 год. После Второй мировой войны Русская революция, несмотря на все её искажения, все еще проявила себя достаточно живой и динамичной, чтобы стимулировать новые революционные процессы в Европе и Азии. Польша снова переняла от русской революции её мрачные, а также её светлые стороны, переняла от неё, вместе с плюсами прогрессивного переворота в общественных отношениях, также и проклятие бюрократического террора и культа Сталина. Польше пришлось тяжело расплатиться за «чудо на Висле» в 1920 году, которым она славилась двадцать лет. Отвергнув русскую революцию на её героическом этапе, ей пришлось смириться перед той же революцией после её вырождения. Презрев Ленина и ленинский интернационализм, Польше пришлось пресмыкаться перед Сталиным и великорусским шовинизмом. Только после того, как Советский Союз начал пробуждаться от кошмара сталинизма, Польша смогла освободиться от него, и тем самым стимулировать процессы возрождения в других социалистических странах. Но только по мере того, как русская революция сходит с глухих тропинок, на которые загнала её история, и наконец, выходит на широкую дорогу социалистической демократии, в той мере прояснятся перспективы Народной Польши. На каждом шагу история демонстрирует ad oculos (на глазок), насколько неразрывны связи между польской и русской революциями. Но в то время как история до сих пор вновь и вновь демонстрировала неразрывную природу этой связи отрицательным образом — путем нанесения самых жестоких ударов по Польше, — в октябре 1956 года она, возможно, начала демонстрировать её в положительном смысле, то есть единственно эффективно.
История до сих пор не всегда была хорошим и разумным учителем. Уроки интернационализма, которые она пыталась дать польским массам, были исключительно условны, плохо продуманы и неэффективны. В течение почти каждого из этих «уроков» история издевалась и оскорбляла национальное достоинство Польши и, прежде всего, достоинство и независимость польского революционного движения. Что же удивительного в том, что «ученик» был не очень восприимчив и, пытаясь убежать от своего «учителя», застревал в джунглях наших националистических легенд? Польские массы поймут, что узы, которые объединяют их судьбу с судьбой русских и других революций, неразрывны, но только после того, как они оправятся от ударов и потрясений, нанесенных им в прошлом, когда они почувствуют, что ничто никогда не сможет снова угрожать их независимости и национальному достоинству. Однако марксисты должны подняться выше потрясений и травм, от которых страдают массы; они должны уже сейчас глубоко и полностью сознавать общую судьбу Польши и других наций, продвигающихся к социализму. Марксисты не имеют права самим питаться или кормить других духовным пайком устаревших, хотя и разогретых мифов и легенд. Социализм не стремится к увековечиванию национального государства; его целью является международное общество. Он основан не на национальной обособленности и самодостаточности, а на международном разделении труда и на сотрудничестве. Это полузабытая правда, это азбука марксизма.
Вы можете сказать, что я предлагаю новое издание люксембургианства, слегка измененное и приспособленное к потребностям 1957 года. Возможно. Вы можете сказать мне, что это всего лишь новая версия теории «органической интеграции». Возможно. Но на кон поставлен вопрос об «органической интеграции» Польши в международный социализм, а не её включение в Российскую империю.
Исаак Дойчер.
Приложение.
Стенограмма выступления Льва Троцкого в комиссии ИККИ 2 июля 1926 г.