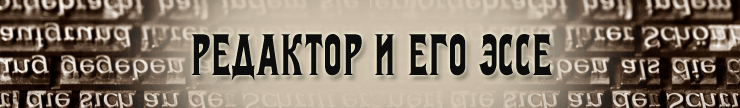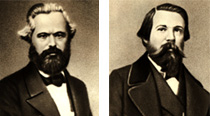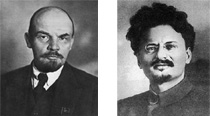О книге Алексея Сафронова «Большая советская экономика».
Ф. Крайзель. 3 ноября 2025 г.
Книга Сафронова — глубоко лживая работа. Ее главная цель: сохранить и защитить миф, будто экономическая система СССР каким то образом отражала и представляла социализм. Автор разводняет и растягивает рассказ, пишет о мелочах, и в целом искажает и опошляет историю в целях этого мифа.
Социалистическая революция в России должна была открыть процесс мировой социалистической революции, и в этом международном революционном процессе отсталая Россия сыграла бы подчиненную роль. Но мировая революция задержалась, а через десять лет революционная программа марксизма была свергнута в СССР, а ее сторонники изолированы и разгромлены. Ведущую роль заняли чиновники из бывших революционеров — Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Бухарин, Рыков — которые проводили программу национальных реформ. Эти национал-реформисты поставили перед собой невозможную задачу: построить квази-социалистическое хозяйство в изоляции от мирового рынка.
Вся история СССР пронизана этим противоречием между социалистическими основами, заложенными революцией 1917 года, и консервативным бюрократическим аппаратом, правившим огромной страной. И. В. Сталин был персонификацией этого реакционного аппарата власти. Главной ролью лже-коммунистического аппарата власти было защитить огромное социальное неравенство между трудящимися массами и привилегированной верхушкой. Разгром марксизма внутри СССР и по всему миру — победа Гитлера, кровавые чистки 1930-х годов, провал Испанской и европейской революции в 1930-е годы и снова по окончании Второй мировой войны — завершился развалом СССР руками правящей бюрократии и реставрация капитализма в России.
Автор такими словами декларирует свою задачу: рассказать «о работе экономики моей страны в течение 70-летнего советского периода… почему решения [её созидателей и руководителей] были именно такими». Структура книги пытается отследить этапы создания и развития СССР. Главы 1—6, например, названы по порядку: «Домашние заготовки. С какими экономическими идеями большевики пришли к власти»; «1918: падение в военный коммунизм», «Военный коммунизм 1918–1921 годов», «ГОЭЛРО (план электрификации России) и создание Госплана», «НЭП (1921–1930)», «Развитие планирования. “Нулевые» пятилетки”».
Отдавая дань ностальгии по СССР и «марксизму» будущих читателей автор кончает почти каждую главу разделом «Политэкономическое резюме». Он дважды ссылается на диалектику, как объяснение какого-то скачка или неожиданности, часто отсылает к Ленину и даже Марксу. Автор — образованный экономист; он собрал внушительную коллекцию ссылок, но связного рассказа всё же не получается. Его рассказ об огромных жертвах советского населения оказывается плоским и недалеким: Сафронов отмечает «массовый голод в 1932-1933 годах, унесший несколько миллионов жизней», отмечает введение Сталиным паспортов, прикрепивших десятки миллионов крестьян к их колхозу и даже замечает по этому поводу: «Крестьяне должны были жить в колхозах и умирать от голода там же».
Многие стройки первых пятилеток строились рабским трудом. Первая такая, Беломорканал, использовала до 108 тысяч заключенных (цифру мы нашли сами, Сафронов ее не дает). Другие бесчисленные лесоповалы, земляные работы, шахты, котлованы, золотые прииски и грубые строительные работы в 1930-е годы принудительно эксплуатировали до двух миллионов зэков. Землеройного оборудования не было и его заменял рабский труд киркой, мотыгой, лопатой и тачкой. Автор пишет:
«Из 1,68 млн членов семей бывших кулаков использовалось в народном хозяйстве 1,49 млн человек (остальные, видимо, были маленькими детьми и немощными стариками), 578 тысяч работало на лесозаготовках».
Скучный подсчет экономических поворотов, реформ и зигзагов особенно пронизает вторую половину книги, после войны и смерти Сталина: глава — пятилетка; глава — пятилетка… Автор перечисляет метания руководства после смерти Сталина: жилищное строительство, хрущевские реформы, перекройка министерств, совнархозы, распашка целины, кукуруза и силос, Машинно-тракторные станции, Косыгинские реформы и прочее, и пр.
Книга Сафронова — скучный рассказ о драматических событиях. Причина скуки — автор уходит от главного вопроса: Чем был СССР? Он не отвечает на вопрос: как оценить Сталина: как продолжателя дела Ленина и большевиков, как победоносного главнокомандующего, как строителя коммунизма, или как могильщика революции и социализма, как главного врага народов СССР и его первого вредителя и саботажника? Сафронов сам признается в своем бессилии: он отмечает разгром хозяйственных органов, расстрел «председателя Госплана В.И. Межлаука и его преемника Г.И. Смирнова, арест многих наркомов, директоров заводов, специалистов» и продолжает:
«Нужно отметить, что если раскулачивание и насильственная коллективизация 1929–1930 годов были неотъемлемой частью механизма "рывка" первой пятилетки, то объяснить экономическую основу террора 1937 года я не могу».
Сафронов не может не упомянуть экономические последствия сталинского террора: разгром кадров, миллионы зэков в ГУЛАГе, замедление перевооружения Красной Армии — но не хочет обобщить и оценить геноцид большевиков-соратников Ленина, избиение командиров Красной Армии накануне войны, истребление культурной интеллигенции. Автор в конце книги сетует о: «состоянии слепоты в советских общественных науках, в которых действительное изучение общества и экономики было подчинено пропагандистским задачам». К сожалению, автор не видит собственной слепоты и ангажированности. Нельзя сказать, что книга перегружена цифрами, таблицами, фактами, но это глупая книга; в ней нет мысли, нет идеи. Рассмотрим важнейшие промахи:
Мировая революция или серия национальных реформ.
Русская революция в 1917 г. победила как часть мировой социалистической революции. Русская социал-демократия опиралась на самую передовую социалистическую мысль Европы. Русская буржуазия до конца цеплялась за царский режим, опираясь на монархию для защиты от угрозы Черного передела со стороны крестьянства, и социалистической экспроприации со стороны пролетариата. Столкнувшись с Мировой войной, с интервенцией Германии и Австрии в 1918 г., и Антанты в 1919-20 гг. российская (как и польская, грузинская и пр.) буржуазия оперлась на империализм против русских большевиков.
Автор лишь в 4-й главе единственный раз упомянул: «Большевики, решившись на захват власти в октябре 1917 года, рассчитывали на скорую мировую революцию, после которой страны объединились бы воедино, и более развитая часть нового бесклассового мира помогла бы экономическому развитию менее развитой, к которой относилась и Россия». Еще один раз автор мимоходом пишет о мировой революции, подразумевая ее невозможность: «Если бы сочетание Великой депрессии на Западе и бурного развития СССР действительно привело бы к революциям в европейских странах, подстегивание темпов 1930–1931 годов со всей его штурмовщиной и несбалансированностью окупилось бы сполна».
Этот тезис о невозможности мировой революции важен идеологам капитализма сегодня, когда в большинстве капиталистических стран, включая также Россию, массы народа и особенно молодежь, враждебно относятся к капиталистической политике, а институты буржуазной демократии разваливаются на глазах.
Военный коммунизм.
Сафронов почти прав, когда называет 2-ю главу «1918: падение в военный коммунизм». Ленин, Троцкий и другие вожди большевиков не планировали пойти на полную национализацию производства и на жестокие меры реквизиционного и распределительного характера. По инициативе снизу сразу после Октябрьского переворота открылась так называемая «красногвардейская атака на капитал», которая была введена в систему в условиях военной разрухи, хаоса в стране и интервенции. Комбеды и продотряды 1918-1920 годов были вынужденной мерой. Это было именно незапланированное «падение в военный коммунизм». Мы пишем, что автор «почти прав» потому, что он умалчивает о главных теоретиках и практиках «военного коммунизма» и главной цели Октябрьской революции.
Программа РКП(б) 1919 года полностью стояла на концепции, что «военный коммунизм» плавно перерастет в невоенный, подлинный коммунизм на базе европейской революции и помощи Советской республике со стороны передовых социалистических стран. Этот процесс мыслился как результат длительной, длящейся десятилетия «перманентной революции». Автор не упоминает также популярный в эти годы учебник «Азбука коммунизма» (авторы: Н. Бухарин и Е. Преображенский), который опирается на ту же концепцию европейской революции. В книге «Что такое СССР и куда он идет?» Троцкий писал:
«Нужно, однако, признать, что, по первоначальному замыслу, [военный коммунизм] преследовал более широкие цели. Советское правительство надеялось и стремилось непосредственно развить методы регламентации в систему планового хозяйства, в области распределения, как и в сфере производства. Другими словами: от «военного коммунизма» оно рассчитывало постепенно, но без нарушения системы, прийти к подлинному коммунизму. Принятая в марте 1919 года программа большевистской партии гласила: "В области распределения задача советской власти в настоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов"».
Автор полностью опускает рассказ о первой попытке большевиков провести обширное восстановление одной из ключевых сфер экономики: ремонт железнодорожных путей, локомотивов и вагонов в 1920 году. Годы войны вконец расстроили унаследованную от царизма систему железных дорог. Ремонт паровозов, вагонов и рельсовых путей остановился, число больных паровозов и расхлябанных вагонов быстро росло, грузоподъемность упала, число аварий умножилось. Достаточно указать, что перевозка груза из Москвы в Харьков могла взять несколько недель, а некоторые ж/д узлы полностью замерли. По решению Центрального Комитета Троцкого в конце 1919 г. назначают по совместительству главой Наркомата путей сообщения (НКПС). Опираясь полностью на агитационно-принудительные меры, и с энтузиазмом поддержанный железнодорожными и другими рабочими, Троцкий успевает подлечить паровозы, залатать самые нужные дороги, добыть достаточно дерева и угля, чтобы отразить нашествие Белой Польши в мае-июле и разгромить Врангеля на юге в конце 1920 года.
Внутрипартийная борьба в 1920-е годы.
Сафронов злонамеренно искажает внутрипартийную борьбу 1923—1927 годов. Его цель: скрыть подмену марксизма сталинизмом. Сафронов пишет всю книгу, как будто советское руководство — Сталин и его преемники — продолжало вести какое-то строительство социализма. В целях этого мифа автор замалчивает разгром марксизма в СССР и контр-революционную роль сталинизма во всем мире в 1930-е годы и до кончины Советского Союза.
Вместо изложения программы Левой оппозиции вокруг Троцкого, автор указывает на маловажный и до сих пор не опубликованный документ «Платформа четырех». Это чистая фальсификация. В 1923—1925 гг. на самой верхушке партии вырос фракционный заговор, ставивший целью изолировать и оттеснить Троцкого. Этот заговор «тройки» (Сталин, Зиновьев и Каменев), а затем «семерки» (все члены Политбюро кроме Троцкого, плюс глава ЦКК, Куйбышев), обязывал членов тайной группы не вступать в дискуссии с Троцким и решать все вопросы келейно, внутри фракции. Осенью 1925 г. Зиновьев, Каменев, Надежда Крупская и Г. Сокольников написали «Платформу» и распространили её в узком кругу противников Троцкого, чтобы набрать очки и потеснить Сталина. Ни Троцкий, ни его друзья-члены ЦК, ни партия в целом не знали содержания «Платформы». Именно поэтому выступление Ленинградской оппозиции Зиновьева на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. против Сталина стало для партии столь неожиданным. Сафронов нечестно переводит внимание от действительных идей Левой Оппозиции на фронду между кликами Зиновьева и Сталина.
Уже в 1923 г. Троцкий и его ближайшие сотрудники Е. Преображенский, Г. Пятаков, Х. Раковский и др. выдвигали идею переливания средств из частного сельского хозяйства в пользу расширения и ускорения индустриализации. Троцкий открыто призывал расширить полномочия Госплана, создать долговременный план развития промышленности. Оппозиция 1923 г. призывала расширить налогообложение зажиточных крестьян и нэпманов в городах. Преображенский, главный экономический теоретик Оппозиции недипломатично, но в целом правильно, называл этот «неравный обмен» между городом и селом «примитивным социалистическим накоплением». Именно на тему развития советской экономики читатель может прочесть книгу Троцкого «К социализму или к капитализму?» (1925 г.) или книги Преображенского «От НЭПа к социализму» (1922 г.); «Новая экономика» (Главархив Москвы, 2008 г.)
Главной идеей Левой Оппозиции было запустить механизм центрального планирования для постройки промышленной базы социалистических реформ. Налогово-кредитная политика должна была подпирать долговременный план индустриализации. В 1925-27 гг. Троцкий требовал усиления налогов на буржуазные слои города и деревни, а Сталин в союзе с Бухариным и правым крылом стоял за снижение налогов и высмеивал строительство ДнепроГЭСа и промышленности в целом как «причуды сверх-индустриализаторов». Троцкий в 1936 г. замечает:
«Бухарин, тогдашний теоретик правящей фракции бросил по адресу крестьянства свой пресловутый лозунг: "обогащайтесь!". На языке теории это должно было означать постепенное врастание кулаков в социализм. На практике это означало обогащение меньшинства за счет подавляющего большинства». («Преданная революция»).
Разгром марксизма в СССР.
Сафронов пишет о расстреле в 1938 г. руководителей Госплана В.И. Межлаука и Г.И. Смирнова. Он в деталях описывает разгром следующего поколения хозяйственного руководства в 1949 г. в ходе так называемого «Ленинградского дела» и «дела Госплана» (Н. Вознесенский, А. Кузнецов, М. Родионов, П. Попков и др.). Сафронов явно неравнодушен к талантливому и волевому экономисту и администратору Николаю Вознесенскому, который много сделал для героической перестройки советского хозяйства в начале Великой Отечественной войны (о войне, ниже). В последних главах книги автор прослеживает совсем уже несущественные перестановки и увольнения министров и других руководителей во времена Хрущева, Брежнева и других.
Совсем другое у автора отношение к плеяде революционеров-марксистов, которые заложили фундамент советского хозяйства в 1920-е годы: здесь автор выявляет равнодушную слепоту и откровенную ложь, как в случае о «Платформе» выше. Вытеснение Троцкого не упомянуто; вытеснение и высылка вождя Украины, Х. Раковского, не упомянуто; то же молчание сопровождает разгром и преследование целой плеяды революционеров в 1927-28 годах.
Сафронов цитирует несколько раз В. И. Ленина, но избегает указать, что вождь партии и страны пытливо и непредвзято, с большими оговорками, иногда противореча самому себе, описывал переходную и противоречивую структуру советского государства. Например, Ленин писал, что хозяйству еще надо расти и расти, чтобы достигнуть «государственного капитализма». На XI съезде РКП(б) Ленин говорил:
«Экономической силы в руках пролетарского государства России совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить переход к коммунизму. Чего же не хватает? Ясное дело, чего не хватает: не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет. Но если взять Москву — 4700 ответственных коммунистов — и взять эту бюрократическую махину, груду, — кто кого ведет? Я очень сомневаюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут эту груду. Если правду говорить, то не они ведут, а их ведут».
А через пятнадцать лет Сталин истребит большинство этих 4700 коммунистов…
В отношении Льва Троцкого Сафронов просто набрал в рот воды. В библиографии Сафронова числится 404 наименования, но не нашлось места для книги Троцкого «Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет?». В целом, Сафронов молчит об аргументах и предложениях Левой Оппозиции и Объединенной Оппозиции 1927 года (которая включала сторонников Зиновьева и группу Демократических Централистов). В большой книге не нашлось места упомянуть о сотнях ведущих большевиков, которые закладывали фундамент рабочего государства: Г. Пятаков, Е. Преображенский, Х. Раковский и другие.
Сафронов не отрицает огромный разгром партийных, хозяйственных, военных и культурных кадров Советского государства в 1936—40 годах, но не связывает этот геноцид с эвентуальным развалом СССР. Между тем Троцкий еще в 1930-е годы писал о партийных и хозяйственных чиновниках, в головах которых от социализма оставались одни фразы. Спустя много лет стало еще хуже: повторенные тысячу раз фразы казались надуманными и набили оскомину; три звезды Героя на груди Леонида Ильича Брежнева звенели наградой за бездарность и долгожитие. Хотя Брежнев в 1967 году назвал советскую систему «развитым социализмом», это идеологическое клише ни на йоту не сделало действительность более красивой, никак не упразднило режим цензуры, не уравняло общественную лестницу.
В художественной литературе эту атмосферу повального лицемерия и эгоизма последних десятилетий советского режима впоследствии высмеивал Виктор Пелевин в популярных повестях «Принц Госплана», «Желтая стрела» и др. И, раз уж речь зашла о литературном отображении исторической действительности, надо отметить написанный в 1965 г. роман Александра Бека «Новое назначение» (Сафронов, кстати, и сам глухо подтверждает правдивость романа: «То, что выводы о сути советской экономики были сделаны на основе художественного произведения, в то время никого не смутило»). Бек, ортодоксальный писатель, участник Гражданской и Отечественной войн, правдиво описывает смену поколений в партийно-хозяйственных верхах. По этой причине роман был запрещен сталинистской цензурой, и вышел в свет лишь в 1986 г. Героя романа, коммуниста Онисимова Сталин назначил наркомом одной из отраслей тяжелой промышленности во время чистки 1937 г., чтобы заменить расстрелянных большевиков-героев Гражданской войны и первых пятилеток. Во время действия романа во вторую половину 1950-х годов от «отставшего от времени» наркома избавляются, отправляя его на почетную синекуру, послом в небольшую европейскую страну. А. Бек правильно показывает, как первое поколение наркомов 1920-х годов делало Революцию, строило СССР, и верило в мировую революцию. Второе поколение Онисимовых, назначенцев 1937 года, мало чем отличаясь от буржуазных национал-реформистов, верило в возможность национального построения «социализма» по приказу, сверху вниз. А теперь, пишет Бек, вместо национальных реформистов вверх пробиваются циники и эгоисты, цель которых — сделать карьеру — или, еще хуже — просто разбогатеть.
Г. Пятаков и его шеф в 1930-е годы, Серго Орджоникидзе персонифицируют первое поколение переродившихся и растерявших идеалы большевиков-строителей Советской власти. Пятаков был активным Левым оппозиционером в 1923—27 гг.; он был исключен из партии и выслан в конце 1927 г., но в 1929 г. стал одним из первых капитулянтов. Сталин восстановил его в хозяйственных должностях, даже включил в ЦК и Пятаков занимал ряд важных хозяйственных должностей, став заместителем Орджоникидзе в Наркомате тяжелой промышленности. По рассказам окружавших его людей, Пятаков пил и буянил, водкой пытаясь залить угрызения совести. Пятакова вывели подсудимым на Втором Московском процессе и расстреляли (не за пьянство, а за троцкизм).
Серго Орджоникидзе сыграл грязную роль в советизации Грузии и Кавказа в целом, показав себя в роли русского держиморды-централизатора, а не коммуниста. Ленин в декабре 1922 г. потребовал сместить и наказать Орджоникидзе, но не успел этого сделать. Сталин, наоборот, приблизил О. к себе и использовал его в пользу своей фракции. О. стал третьим, после Молотова, значимым приспешником диктатора, но некоторая независимость и традиции, выученные в школе большевизма привели к тому, что Орджоникидзе покончил самоубийством в феврале 1937 г., когда ГПУ уже стучалось в двери его квартиры.
А что можно сказать о поколении М. Горбачева, Б. Ельцина и Н. Рыжкова? Председатель Совета министров СССР и правая рука Горбачева, Николай Рыжков был разоблачен как спекулянт и торговец оружием в январе 1990 г., когда раскрылось так называемое «дело АНТа» — попытка мошенников, под прикрытием самых высоких чиновников, нелегально продать заграницу 12 боевых танков Т-72. Через пару лет президент Российской Федерации Ельцин будет окружен дворцовой челядью, которая открыто потребует взятки за аудиенцию с президентом. Экс-члены Центрального Комитета КПСС отвергнут социализм и объявят, что нашли Бога и узрели моральные преимущества буржуазной демократии.
Великая Отечественная война.
Глава 9 «Военная экономика» выгодно отличается от других глав этой длинной книги ярким и энергичным языком:
«Войну ждали, к войне готовились. Советская экономика к середине 1941 года уже во многом была милитаризована. Нужды обороны не позволили обеспечить запланированный опережающий рост производства бытовых товаров во второй пятилетке и оказали определяющее влияние на план третьей пятилетки. За вторую пятилетку оборонная промышленность выросла на 286 %, за годы третьей пятилетки росла в среднем на 39 % в год (вся промышленность — только на 13 % в год). Вся ускоренная индустриализация была продиктована ожиданием скорого нападения. Тем не менее в военном отношении страна оказалась плохо готова ко вторжению гитлеровцев, враг дошел почти до Москвы, к ноябрю 1941 года были потеряны местности, на территории которых производилось от трети до двух третей промышленной продукции разных видов и почти половина продукции сельского хозяйства.
«Из-за территориальных потерь валовая продукция промышленности с июля по ноябрь сократилась в 2,1 раза, выпуск проката черных металлов сократился в 3,1 раза, производство проката цветных металлов — в 430 раз, численность занятых в народном хозяйстве сократилась на 13 млн человек. Из строя выбыло 303 военных предприятия, которые производили в месяц 8,4 млн корпусов снарядов, 2,7 млн корпусов мин, 2 млн корпусов авиабомб, 7,9 млн взрывателей, 2,5 млн ручных гранат, 7800 т. пороха, 3000 т. тротила и ряд других компонентов.
«Однако ничего подобного ситуации времен гражданской, когда войну выиграли во многом на старых запасах, обеспечив их максимально экономное и целевое использование, не произошло. Советская экономика за один год оправилась от поражений начального периода войны, перестроилась на выпуск военной продукции, «переехала» на тысячи километров на восток и к концу 1942 года оказалась в состоянии производить больше вооружения всех видов, чем могла выдавать экономика гитлеровской Германии и ее сателлитов. За 1942 год выпуск промышленной продукции вырос в 1,5 раза, за 1943-й — еще на 17 %.
«Как это обычно бывает с советской историей, мы хорошо знаем факты, но до сих пор плохо представляем себе механизмы и движущие силы, обеспечившие такой результат. В десятках публикаций на разные лады повторяется, что за несколько месяцев 1941 года под бомбежками и артобстрелами удалось разобрать, погрузить и вывезти в восточные районы страны две с половиной тысячи предприятий, из которых почти полторы тысячи крупных, но сам этот факт ни на йоту не приближает нас к пониманию того, как это удалось сделать».
Автор признается в слабости своего анализа: «Я сам, к сожалению, тоже могу назвать лишь отдельные факторы, обеспечившие успех». Мы скажем другое. Сталин и его окружение развалили подготовку к войне: разгромили Красную Армию, убили партийных и государственных деятелей, оставшихся от эпохи Ленина и Троцкого, подорвали симпатию трудящихся Восточной Европы к Советскому Союзу (не забудем про Катынский расстрел польских военнопленных и массовые репрессии в западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике).
Советский народ сделал всё для победы; Сталин и его режим сделали всё для поражения. Читателю, которого интересует тема войны и победы, я рекомендую подглаву «Почему "Сталин победил Гитлера"?» в статье «Троцкий и судьба России».
Неравенство и нищета.
Сафронов не скрывает, что реалии жизни в СССР для большинства народа были плохими, но избегает конкретики. Скажем за него то, что он сказать стесняется: суровая рабочая дисциплина, тоталитарный запрет профсоюзной деятельности и забастовок, «Закон о трёх колосках» в 1932 году, а в 1935 г. введение смертной казни для подростков, начиная с 12 лет, голод, бараки и коммуналки вплоть до 1970-х годов, система закрытых распределителей, начатая Сталиным и продолженная до самого конца СССР; роскошные квартиры для номенклатуры, специальные поселки, клубы-рестораны и больницы для советской знати (писатели, художники, офицеры, чиновники и т.д.), и не забудем гараж роскошных автомобилей, который собрал Генсек Л. Брежнев. Главной чертой сталинизма была борьба с «уравниловкой», под которой сталинцы понимали общественное равенство. Сталин в первую пятилетку упразднил «партмаксимум» и установил жесточайшее неравенство внутри иерархии.
Сафронов пишет:
«в период индустриализации после выступления Сталина перед хозяйственниками, в котором Сталин призвал «уничтожить уравниловку и разбить старую тарифную систему» (23 июля 1931 года), была введена сетка, которая установила разрыв в размере 1:4, а в послевоенную пятилетку, по некоторым оценкам, 10 % самых высокооплачиваемых работников зарабатывали в семь раз больше, чем 10 % самых низкооплачиваемых».
После смерти Сталина его наследники сократили этот разрыв, подняли оплату колхозников и низкооплачиваемых рабочих, расширили сферу услуг, которая тоже действует в пользу подъема уровня жизни низших слоев. Но автор книги, к сожалению, не дает нам какое-то общее понимание роста или уменьшения неравенства в СССР за 74 года его существования, скажем общую кривую с коэффициентом Джини.
Сафронов как попугай повторяет, что социалистическим принципом оплаты труда есть формула: «От каждого — по способностям, каждому — по труду». Это на самом деле формула капиталистического, буржуазного распределения. Социализм стремится к удовлетворению всех человеческих потребностей, призывает не к бóльшей зарплате, а к упразднению системы платы за работу.
О провале колхозной системы автор саркастично пишет: «спустя два года после начала массовой коллективизации колхозник зарабатывал где угодно, только не в колхозе». Он снова и снова отмечает неэффективное и нерентабельное сельское хозяйство, продолжающиеся дефициты, плохую диету горожан. Он несколько раз пишет о Новочеркасский трагедии в 1962 г., например, «после Новочеркасска государство опасалось переносить на конечных потребителей» карточное распределение или повышение розничных цен на продукты питания. Даже больше, чем бунта в Новочеркасске, советское руководство пугалось всё более грозных звонков из ГДР (1953 г.), Польши и Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.). Последним предупреждением для советской бюрократии стал рост «Солидарности» в Польше в 1980 г., где падение сталинистского режима было отложено на несколько лет лишь благодаря введению военного положения под командованием генерала Ярузельского.
В этой связи стоит вспомнить, что будущий глава КГБ и генсек Юрий Андропов служил в 1956 г. послом в Венгрии. Став после смерти Брежнева новым генсеком, Андропов сделал отчаянную попытку предотвратить в Советском Союзе социальный взрыв по-венгерски или по-польски.
Стагнация…
О длительной стагнации последнего советского тридцатилетия Сафронов пишет особенно скучно. Он описывает ведомственные и местные интересы руководителей всех рангов: директор предприятия толкал в сторону занижения плана, чтобы этот заниженный план перевыполнить; секретарь обкома занимался очковтирательством. Новый котлован был вырыт, но стройка и запуск завода затягивались на десятки лет, и его продукция оказывалась устаревшей и невостребованной. Фабрика выпускала некачественный и вышедший из моды товар ради количественного перевыполнения дутого плана. Автор цитирует мемуары высокопоставленного хозяйственника Н. К. Байбакова:
«У ряда руководителей — от директоров крупных заводов до министров — появилось убеждение, что главным местом в борьбе за выполнение плана являются проспект Маркса и Кремль, а не практическая работа на местах» (Госплан размещался на пр. Маркса; в Кремле заседал Совет министров).
Сравним язык Сафронова с рассказом Троцкого в «Преданной революции»:
«Прогрессивная роль советской бюрократии совпадает с периодом перенесения важнейших элементов капиталистической техники в Советский Союз. На заложенных революцией основах совершалась черновая работа заимствования, подражания, пересаживания, прививки. О каком-нибудь новом слове в области техники, науки или искусства пока еще не было и речи. Строить гигантские заводы по готовым западным образцам можно и по бюрократической команде, правда, втридорога. Но чем дальше, тем больше хозяйство упирается в проблему качества, которое ускользает от бюрократии, как тень. Советская продукция как бы отмечена серым клеймом безразличия. В условиях национализованного хозяйства качество предполагает демократию производителей и потребителей, свободу критики и инициативы, т.е. условия, несовместимые с тоталитарным режимом страха, лжи и лести».
Сафронов на многих страницах книги пытается объяснить, почему не привились центральные и персональные компьютеры в системе планирования. В 1950-е годы Советский Союз не отставал от Запада, а в некоторых областях даже опережал Соединенные Штаты. Но система политической диктатуры несовместима с персональными компьютерами, а Сафронов не хочет акцентировать диктаторский аспект советского режима.
Все сталинистские режимы обеспечивали политическую стабильность через полицейское подавление демократических свобод, тотальную цензуру и пр. Информационные технологии пробивали непоправимые бреши в системе полицейского контроля, и поэтому диктатуры Восточной Европы и СССР ввели строгие ограничения на развитие вычислительной техники и сетей информации. В начале 1950-х годов начались гонения на кибернетику и другие дисциплины, которые серьезно замедлили развитие этих технологий в СССР. Механические пишущие машинки не продавали в СССР до 1970-х годов — власти стремились предотвратить и затруднить обход цензуры через «самиздат». Комитет Государственной Безопасности контролировал и отслеживал все пишущие машинки, чтобы вычислять и наказывать распространителей запретных идей. Все же вычислительные машины и компьютеры начали пробивать себе дорогу в советской науке и технике. В 1950 году заработала МЭСМ — первая в СССР ЭВМ, а в 1952 году — БЭСМ-1. Военные и космические проекты стали главными заказчиками и двигателями компьютерных технологий. Крупные ЭВМ, лабораторные и заводские компьютеры начали появляться в ведущих конструкторских бюро и предприятиях, но советское руководство весьма отрицательно относилось к разработке и внедрению персональных компьютеров и сетей связи. Со временем эти ограничения всё более тормозили развитие экономики в целом.
В книге Сафронова присутствуют ценные наблюдения, например, «Доля промышленных потребительских товаров в импорте СССР выросла с 14,2 % в 1965 году до 18,3 % в 1970 году». Автор замечает:
«За одну пятилетку советский потребительский дефицит из относительного стал абсолютным. Наиболее крупным ответом на этот вызов стало строительство в Тольятти совместно с итальянским концерном „Фиат“ завода легковых автомобилей „АвтоВАЗ“».
Все больше развивалась внешняя торговля по схеме экспорт природных ископаемых, леса, рыбы; импорт потребительских товаров, точных приборов и станков. Сафронов отмечает торговый договор «газ в обмен на трубы» в первой половине 1970-х годов с Италией, и продолжает:
«По схожей схеме развивалась добыча леса, угля, нефти и газа на Дальнем Востоке: Япония давала кредит, на который СССР покупал японское же оборудование для лесных разработок и расплачивался за него лесом».
В 1970-е годы были заключены аналогичные соглашения с ФРГ и США:
«Первое такое соглашение (не считая «трубных» сделок) было заключено с ФРГ 7 марта 1973 года и предусматривало строительство завода по производству полиэтилена в Казани. Через две недели, 22 марта, было заключено соглашение с американской фирмой Occidental Petroleum Corporation на 7 млрд долларов по продаже СССР до 1 млн т в год суперфосфорной кислоты для производства фосфорных удобрений в обмен на советский аммиак, мочевину и калий. Это была крупнейшая советско-американская торговая сделка в истории разрядки, которая позволила построить четыре аммиачных завода в Тольятти, аммиачный трубопровод в Одессу и портовые сооружения для отгрузки аммиака в Соединенные Штаты».
Автор заключает:
«Нефтедобыча… всё больше становилась стабилизирующей отраслью, за счет которой компенсировались дисбалансы: за валюту от экспорта покупались и потребительские товары, и оборудование для отраслей, которым не доставалось качественных отечественных ресурсов».
В наследство от СССР в России, Украине и пр. остались до недавнего времени газо- и трубопроводы в Западную Европу, недавно разрушенный аммиачный трубопровод Тольятти-Одесса. Но эти ценные наблюдения не систематизированы и бессистемны. Объясним сами, не ради автора, а ради темы:
Советские чиновники в Госплане, в Совете министров, в республиканских органах управления, директоры заводов, профсоюзные и партийные чиновники не были мотивированы построением социализма, тягой к равенству и справедливому, гармоничному обществу. Все марксисты были в свое время уничтожены Сталиным, и нынешние директоры и управленцы были именно назначенными чиновниками. Зигзаги пятилеток и постоянные перестройки заданий и программ задумывались и проводились порученцами. Их членство в КПСС было маскировкой, не более. Поэтому так быстро и бесстыдно проходила перекраска бывших «коммунистов» в «демократов» и «патриотов» той или другой национальности в 1988—93 гг.
Общее направление советской экономики в последние декады СССР было в сторону капитализма. Сафронов рассказывает о «комсомольской экономике» и разворачивании капиталистических структур:
«Важнейший для дальнейшего развития российского капитализма документ появился 25 июля 1986 года. В этот день ЦК КПСС, согласившись с предложениями ВЛКСМ, принял положение о структуре и руководящих органах единой общественно-государственной системы научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Сеть центров НТТМ (ЦНТТМ) должна была вовлечь молодежь в программу "ускорения". Для этого центры НТТМ могли заключать договора с государственными предприятиями. Сами центры действовали на основе хозяйственного расчета».
Но в целом изложение Сафроновым процессов, приведших к упразднению Советского государства не удалось. Этот недостаток, впрочем, не личная слабость господина Сафронова: академические кремлинологи в ведущих вузах Европы и Америки, спецслужбы западного мира (ЦРУ, разведки Франции, Германии и др.), никто не предвидел, что правящая элита Советского Союза займется его разложением и расколом.
В отличие от сталинистов и буржуазных идеологов Троцкий в 1938 г. в «Переходной программе» выразился так:
«Режим СССР заключает в себе, таким образом, ужасающие противоречия. Но он продолжает оставаться режимом переродившегося рабочего государства. Таков социальный диагноз. Политический прогноз имеет альтернативный характер: либо бюрократия, всё более становящаяся органом мировой буржуазии в рабочем государстве, опрокинет новые формы собственности и отбросит страну к капитализму; либо рабочий класс разгромит бюрократию и откроет выход к социализму».
В другой статье Троцкий писал, что реставрация капитализма
«разрушила бы плановое хозяйство и установила бы в стране режим, представляющий сочетание истинно русского фашизма с китайским экономическим хаосом. Страна оказалась бы экономически отброшена на полстолетия назад».
Четвертый Интернационал с вниманием следил за приходом к власти М. Горбачева и уже в 1986 году оценил первые шаги нового генерального секретаря как подготовку к упразднению перерожденного рабочего государства и реставрации капитализма. В 1988 г. Международный Комитет 4 Интернационала выпустил развернутую критику новой сталинистской программы, брошюру «Перестройка против социализма». Один из заключительных параграфов говорит:
«Политика Горбачёва является признанием сталинистской бюрократией, что перспектива социализма в одной стране полностью провалилась. Бюрократия предлагает разрешить кризис советского хозяйства, коренящийся в его изоляции от мирового рынка, через интеграцию Советского Союза в структуру мирового капитализма, путём передачи страны в руки международных капиталистических картелей и банков».
Россией и другими республиками бывшего СССР управляют крохотные олигархии сказочно богатых миллиардеров, тесно связанные и подчиненные мировому империализму. Капиталистическая демократия не удалась ни в России, ни на Украине, ни в других местах. Наблюдается общее обнищание масс и дрейф к авторитарным методам правления. Продолжающаяся уже три с половиной года война на Украине представляет собой вынужденную и запоздалую попытку В. Путина защитить для себя хоть толику автономности от ведущего империализма США, сохранить пространство для эксплуатации природных ископаемых, которыми он и его друзья торгуют на международном рынке.
Назревает общий крах российского капитализма и его окончательное подчинение империализму. Противостоять «истинно русскому фашизму» может только рабочий класс России, Украины и других республик под руководством Четвертого Интернационала.